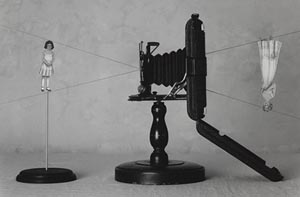Прощание с фотографией. Часть III
Лекция, прочитанная в ИСИ осенью 2006 года
Прощание с фотографией. Часть I
Прощание с фотографией. Часть II
Что позволяет себе кино и чего не может позволить себе ни фотография, ни комикс? Между прочим, самые близкие к Коулмену по жанру вещи - это комикс и фотороман, низкие виды искусства. Так же определяет их и Барт в своем "Открытом смысле": он прямо пишет о низких искусствах. Но именно в такого рода искусствах, замечает он, содержится колоссальный потенциал для теоретизирования. Итак, что наблюдается в кино? Если мы видим в кино диалог, то камера последовательно занимает положение то одного героя, то другого. При этом мы покидаем свою внешнюю позицию по отношению к происходящему и становимся на точку зрения камеры: под определенным углом зрения мы видим попеременно то одного героя, то другого. Тем самым мы вовлекаемся в очень энергичное движение, чему способствует развертывание кинематографического повествования. Однако в случае комикса и фоторомана камеры нет. Невозможно все время последовательно показывать, как посмотрел один, как, на его взгляд, ответил взглядом другой, - это бесконечно замедляло бы развертывание сюжета в пространстве застылого комикса. Что делает комикс или фотороман? Он объединяет эти две позиции в одном изображении. Тот, кто провоцирует реакцию, и тот, кто ее демонстрирует, оказываются вместе - они показаны находящимися в рамках одного и того же изображения, но показаны очень интересным образом. Как читатель комикса, ты понимаешь, что там что-то происходит и что герои взаимодействуют между собой, но при этом они смотрят в разные стороны, у них всегда не совпадает взгляд. Это экономия самого средства - комикса, которое не может позволить себе показывать, как герои встречаются глазами: потребовался бы неоправданно долгий монтаж. Иными словами, все время видишь героев расположенными таким образом, что они имеют отношение друг к другу, и ты считываешь эту взаимосвязь, но никогда не видишь, чтобы они встречались взглядом. Это и есть то, что Краусс определяет как "двойную стойку".
Все это, считает Краусс, подводит нас к осознанию того, что в данном случае Коулмен использует фотографию отнюдь не традиционным образом. В экспериментах Коулмена фотография окончательно теряет свою специфику выразительного языка, хотя это произошло в основном еще в 60-е годы. Теперь же фотография не просто утрачивает свою специфику, но служит изобретению другого средства, фактически средство это порождает. Такое выразительное средство является, по мысли Краусс, синтетическим. Слово это мое - она его не использует. Зато использует более точное слово, заимствованное у Беньямина: средство, говорит она, становится множественным. В самом деле, вспомните о музах. Музы суть разные лики искусства. Само по себе искусство сегодня множественно. Оно уже не воплощает единую концепцию искусства с большой буквы, а есть, напротив, новое средство, которое объединяет в себе, но и дробится, распадается на множество самых разных искусств. Это как бы внутри себя множественное средство выражения. И именно эту изменившуюся ситуацию, по мысли Краусс, обнаруживает сегодня фотография - та, что потеряла свою специфику, но инкорпорировала другие элементы (комикс, фотороман), при том, что сама перестает быть фотографией. Отмечу, что об этом пишут разные авторы. Множественность искусств - это предмет размышлений Нанси. У него есть увлекательная книга "Музы", к которой вас и отсылаю.
В развитие одного из тезисов могу сказать, что как объект теории фотография функционирует давно и успешно. Я уже говорила о том, что есть разные теоретики фотографии. Барт в первую очередь. Он написал книгу под названием "Camera lucida". Она вышла в свет в 80-м году и с тех пор регулярно переиздается: в Америке, например, она выдержала 24 переиздания, а это о чем-то говорит. Это, конечно, базовая книга по теории фотографии: с ней все время пытаются совладать - полемизируют и т.д., - но она остается в каком-то смысле непревзойденным шедевром. Можно сказать, что в отличие от только что упоминавшегося Деррида Барт выстраивает отдельную теорию фотографии. Но уже Барт - не будем забывать, какие это годы, а именно конец 70-х, - пишет о фотографии в терминах невозможности. С одной стороны, он говорит о том, что это "невозможная наука уникального". Есть у него такая формулировка. Если говорить очень коротко, сводя все к одной броской фразе, то для него это проблема сингулярного. Чем удержать сингулярное? Какими средствами оно передается? Ведь о нем нельзя сказать, и философия бьется над тем, чтобы найти какой-то способ сообщить о сингулярном. И для Барта фотография фактически становится таким сообщением. Если у нее есть какое-то сообщение - не будем пользоваться его семиологическим языком, а он говорит о том, что это "незакодированное" в своей основе сообщение, - скажем лучше, что это сообщение сингулярности, или сообщение о сингулярном.
Но на более простом уровне он говорит также о том, что фотография, которую он описывает в этой книге, уже не существует. Барт понимает, что категории, вводимые им применительно к фотографии, и главным образом punctum - одна из этих двух категорий, - в каком-то смысле устарели. Фотографии как punctum'а уже не существует: это некоторое архаическое образование. Подчеркну: Барт это сознавал уже тогда. Вы не найдете ее в обществе, утверждает он, потому что общество делает все, чтобы этот самый punctum преобразовать в набор закрепившихся кодов, а для него это именно коды, то есть языки, которые плодятся в культуре и на которые мы постоянно переводим все наши восприятия и впечатления. Мы не перестаем осуществлять символическую деятельность перевода - культура так устроена, чтобы переводить, - и никакая боль или рана (ведь что такое punctum - это рана, боль, чувствительный укол) не сохраняется в своей чистоте или, скорее, интенсивности. Все устроено так, чтобы эту боль вытеснить, забыть, на то же направлена и собственно работа траура. Однако Барт, которому все это прекрасно известно, выстраивает свою книгу против работы траура, против функционирования систем культуры или, уже, символических систем. Он хочет во что бы то ни стало искупить punctum, а punctum и есть сингулярность.
Об этом по-своему - очень тонко - рассуждает Деррида, который, как я уже отмечала, специально не писал о фотографии, но у него есть статья под названием "Смерти Ролана Барта". Это непростое сочинение, по сути дела некролог: он вспоминает Барта, делая это с типичным для него изяществом. Деррида располагает Барта в удивительном диапазоне от его первого сочинения, "Нулевая степень письма", до самого последнего, а последним сочинением Барта как раз и была его книга о фотографии. Деррида вспоминает - вспоминает свои образы Барта. Когда он пишет о книге "Camera lucida", он характерным образом заостряет или ставит заново проблему метонимии. У Барта слово "метонимия" не раз проглядывает в книге - с разных сторон он исследует и оговаривает punctum, пытаясь ответить на вопрос, как мы можем говорить о punctum'е, об этой самой сингулярности. Он совершает сложную аналитическую процедуру, начиная с детали, заметной в изображении, и постепенно переходя на уровень того, что в принципе неизобразимо: Барт пишет о punctum'е как о времени, ибо punctum это и есть время фотографии. "Ca a ete" - так это звучит по-французски ("Оно там было" - в переводе М.Рыклина). Это время того, что мы видим, но видим всегда уже в прошлом. Формулировка как будто простая. Но именно это и интересует Деррида: момент настоящего, в котором всегда отпечатано некое отсутствие. Настоящее, схватываемое через отсутствие, отсутствие в самом настоящем - или, если угодно, нехватка. Это и есть специфическое время фотографии, которое, как считает Барт, и отделяет ее от всех других известных нам изображений - создаваемая ею особая пространственно-временная категория. На пути к определению punctum'а Барт и вводит в игру понятие метонимии. Вы знаете, что это часть вместо целого, согласно расхожему определению. Барт же перетолковывает метонимию в том смысле, что punctum - деталь, чувствительный укол, то, что нас с вами цепляет в фотографии, - имеет некоторую силу расширения. Например, вы увидели что-то, а потом забываете об этом - уходите, занимаетесь чем-то посторонним, - но мысленно все время возвращаетесь к нему: это то, что вас преследует. Призраки, если вспомнить Деррида: то, что постоянно к вам наведывается. Барт, однако, не употребляет слово "призрак". Он пишет о "спектральном" характере фотографии, то есть о ее призрачности, но не в том смысле, в каком эту тему в целом развивает Деррида. А Деррида как раз и останавливает свое внимание на метонимии, она становится центром его интереса. Не забывайте: мы все время обсуждаем сингулярное. Вопрос в том, как можно передать боль - или любовь.
Я уже упоминала, что был такой теоретик фотографии, как Флюссер. Он принадлежит другому историко-культурному контексту, но его размышления о коммуникации вполне продуктивны. Флюссера интересовали различные каналы информационного распространения. У нас о нем очень мало сочинений, да и сам он практически - а то и вовсе - не переведен на русский язык. Однако в данном случае мне хотелось бы подчеркнуть одну-единственную вещь: каждый раз, когда начинается разговор о фотографии, когда фотография становится объектом теоретизирования, она мгновенно ускользает - как равное себе изображение - и уступает место разнообразным спекуляциям. Это признали все. Для Деррида, например, открывается область так называемой призракографии. Чтобы продлить серию примеров, расскажу напоследок о некоем фильме. Была одна актриса, рано умершая, по имени Паскаль Ожье. Она снялась у Ромера и этим прославилась, вернее, после выхода фильма только начала обретать популярность. После этого Ожье снялась вместе с Деррида, тогда еще тоже довольно молодым, в картине под названием "Ghost Dance". Это фильм 83-го года, в русском переводе - "Танец духов". Фильм по всем критериям ранний; я видела оттуда только те кадры, которые воспроизведены в одной из книг Деррида. По сценарию Деррида рассуждает о призраках - вы можете почитать "Призраки Маркса", дабы как-то прояснить ситуацию, - так вот, ему предстояло теоретизировать о призраках, а Паскаль должна была в конце сказать только одну фразу: "Да-да, теперь я верю в призраков". Так оно и получилось: сцена снималась в каком-то кафе, Деррида долго-долго говорил, и Паскаль его слушала - молодая красивая женщина с тонкими чертами лица. И вот Деррида завершает свою тираду, и актриса произносит: "Да-да, теперь я верю в призраков". А потом, рассказывает Деррида, спустя какое-то время он уехал в Америку и там смотрел этот фильм со своими студентами. Паскаль уже не было в живых. Теперь нет в живых и Деррида... Тогда, в Америке, он пытался объяснить студентам тот самый момент, когда Паскаль произносит фразу: "Теперь я верю в призраков". Деррида обсуждает статус этого "теперь" - к какому времени относится слово "теперь". Он хочет сказать: мы смотрим фильм затаив дыхание не потому, что Паскаль умерла, - призраки населяют наше настоящее. И "теперь" никогда себе не равно, в нем всегда есть разрыв, расщеп, оно всегда уже населено призраками. Или, как он объясняет другими словами: траур начинается не после смерти, а намного раньше, до нее. Это извечное неравенство "теперь" самому себе. На самом деле можно говорить об особом образе времени, который в целом вырисовывается у Деррида.
Однако будем откровенны: Деррида не так интересуется фотографией, как можно было бы предположить. И это несмотря на то, что в работе, где он вспоминает фильм с участием французской актрисы, он вспоминает также Барта и его книгу "Camera lucida". И хотя он не говорит о сингулярности, для него она становится этической проблемой, проблемой абсолютной инаковости другого, который несет с собой свой собственный мир. Причем не важно, жив этот человек или нет, - мир этот никуда не пропадает. И для Деррида фотография, вернее, эффект реальности, ею создаваемый, - это способ говорить о мире, который несет с собой другой. В этом смысле другой оказывается родом этического императива: ты должен принять, узнать этого другого, хотя не всегда ты можешь встретиться с ним взглядом. Деррида рассуждает об этом, обращаясь к языку шекспировского "Гамлета", откуда он выбирает один эпизод и называет его эффектом забрала. Вы помните, что в начале пьесы приходит тень отца Гамлета. Гамлет взволнован ее появлением; приближаясь к стражникам, он спрашивает, было ли у тени поднято забрало. А Деррида говорит: не важно, было поднято забрало или нет. Самое главное, что мы никогда не видим взгляда другого. Для него это просто знак того, что другой становится императивом, что смотрит на нас именно он - в данном случае это делает тень. Вспомним также грядущее, событие: то, что на нас смотрит, но мы никогда этого не видим. Это как заповедь - определенная этика, которую несет с собой другой с большой буквы или другое. А оно для Деррида и есть то самое не-живое, о котором я упоминала: то, что не относится к порядку наличия, присутствия и т.п. Не пойму, как мы уклонились в эту сторону: здесь много сюжетов, которые требуют самостоятельного рассмотрения.
При том, что многое осталось в стороне, фотография подвела нас к очень интересным заключениям. Множественность суппорта, или множественность средств выражения, - вот первое и главное, к чему мы пришли, рассмотрев различные примеры. Можно также говорить о том, что сегодня в фотографию вчитывается - если использовать термин Беньямина - не только множественность искусств, но и множественность самого фотографического сообщения. Оно множественно потому, что есть способ, как я полагаю, спасти историю для фотографии. Барт, например, дает замечательную интерпретацию фотографии, но в ней нет места историческому времени, поскольку он спасает "мою" историю. Понятно, что он отстаивает индивидуальный аффект перед лицом истории, которая стирает всякий след любви вообще, поэтому история и становится для него враждебной стихией. А он хочет сохранить индивидуальную любовь, переживание, аффект, сингулярность того, кто это переживание вызывает: сингулярность другого. В результате история ретируется. Мне же представляется - оставляю это как повод для дальнейших размышлений, - что сегодня есть возможность говорить об истории применительно к фотографии, об аффекте во множественном числе. Имеется в виду, что не я созерцаю фотографию - исходный принцип прежнего анализа, - но существует целая общность, которая узнает себя в ней именно в качестве общности. Думаю, что зритель сегодняшней фотографии - это не индивидуальный зритель, а некое сообщество, переживающее остаточный или, вернее, ослабленный аффект перед лицом подобной фотографии. Иными словами, говоря о фотографии сегодня, есть способ теоретизировать историческое время и коллективную в своей основе аффективность.