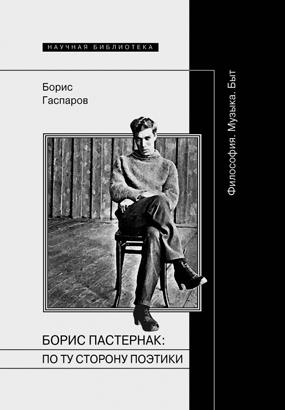Три книги от Александра Маркова

Вейль, Симона. Формы неявной любви к Богу. / пер. с фр., предисл. П. Епифанова. – СПб.: Quadrivium, 2013. – 520 с. – 500 экз.
Переводить Симону Вейль трудно, несмотря на простоту ее языка: у нее все стоит в каком-то неведомом наклонении, в порыве, в отношении. Ее речь снимает привычные модальности утверждения и вопроса, адресации и размышления – все оказывается одним огненным движением букв, уже не пляшущих в пламени мысли, но заставляющих плясать душу.
Сестра математика Андре Вейля, одного из создателей группы «Бурбаки» (новых «Начал» математики), она отвергла привычное означивание, привычные уравнения, будь то математические или языковые. Уравнение, уравнивание и было для нее фатальной рутиной быта, тогда как только траектория неравенства, обнажающего все недочеты прежнего пути, и может стать свободой.
Траектория жизненного пути Симоны Вейль – из оккупированной Франции в США, а после обратно в Лондон для работы в рядах Сопротивления, – это именно такая траектория предельного неравенства себе, обнажения в себе всего наивного, смешного, нелепого, но одновременно – обретения искренности при столкновении с новой реальностью. Руководители Сопротивления считали Симону странной и мало приспособленной к жизни, родные и близкие почитали ее как выдающегося мыслителя.
В книге, подготовленной Петром Епифановым, мы можем встретить настоящую Симону, увиденную не через призму бытового и исторического опыта, но именно в том страстном наклонении, в том порыве новой искренности, который и стал ее жизнью и ее мыслью. Где современники видели отдельные жесты, отдельные прозрения или отдельные мучительные переживания, там мы видим одно пламя страсти, пламя мысли, рвущееся в будущее потоком взволнованной, нюансированной, со множеством союзов и предлогов речи.
Для Петра Епифанова, тщательно реконструирующего жизненную канву Симоны Вейль, она, прежде всего, философ особой природной кротости, камертон мысли и одновременно музыкальное произведение, исполняемое нюансированностью самой природы. Симона Вейль оказывается теологом-мистиком не столько в своих отдельных утверждениях, сколько в этой общей сокровенной музыкальности, которая гораздо сильнее любой расстановки акцентов и любого интеллектуального дирижирования. Если природа умеет звучать даже скрыто, даже когда ручка настройки громкости повернута на нуль, то это ли не доказательство того, что она – только часть мировой мистерии? Неожиданно оказывается, что после трудов Симоны Вейль легче читать Хильдегарду Бингенскую или мастера Экхарта.
Читатель книги откроет для себя и неожиданную Симону Вейль – путешественницу по Италии, наблюдательницу повседневной жизни, иногда не менее остроумную, чем Варбург и даже Беньямин. Эта часть наследия Симоны Вейль еще ждет своего толкователя и исследователя. Замечу только, что здесь Вейль оказывается феноменологом силы – там, где другие видят вещи и выстраивают готовые шахматные ходы ассоциаций, она видит силы, пробужденные вовремя или не вовремя. Эти силы могут жаловаться, что их невовремя разбудили, и яриться, действовать во зло, но есть и силы, которые любуются тем, сколь многим и сколь многому они помогли просто быть.
Симона Вейль оказывается таким старинным музыкантом мысли, для которого важнее всех эффектов, всех музыкальных увлечений, простое прислушивание к возможностям своего инструмента, возможностям помещения, в котором это произведение исполняется. Но вдруг неожиданно это помещение, созданное историей философии, расширяется до пределов целой вселенной. Бытие или мысль оказываются не философскими категориями, но просто тем, что есть, тем, что мыслится. Происходит опыт возвращения не «к самим вещам», а «к самим первым началам». И блестящий перевод Петра Епифанова передает это действие Симоны Вейль, возможность иногда неточно, иногда несколько опрометчиво употребить какое-то слово, но так, что в философии происходит настоящая революция.
Гаспаров Б.М. Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт) / Борис Михайлович Гаспаров. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 272 с. – 1500экз.
В пастернаковедении с некоторого момента пройден рубеж, когда сказать новое о Пастернаке можно только если не увлекаться им, а увлекаться с ним. Но увлечься с ним – значит, увлечься философией или музыкой, тем, от чего сам Пастернак отрекался. Нужно поэтому уметь остановиться в этих увлечениях на какой-то ступени. Б.М. Гаспаров в своей новой книге говорит, где именно надо останавливаться, чтобы понять поэтику Пастернака разных периодов.
Основная идея книги – «высокая болезнь», вообще болезни, травмы, предсмертные состояния – это не прозаические и житейские эпизоды биографии Пастернака, а символ его жизни. Нужно уметь переболеть романтизмом, музыкой, философией, одним словом, прошлым и будущим, чтобы стать настоящим поэтом времени. Эта болезнь может быть очень тяжелой, исход ее до конца неясен, но если ей не переболеть – то будущее или прошлое поглотят всю поэтику: судьба Маяковского, обозначенная в «Охранной грамоте», становится для Б.М. Гаспарова символом поэтологии самого Пастернака.
Поэт, переживший такую болезнь, становится своим для будущего, принимая быт вовсе не как низкий сор эпохи, а как тренажер по прыжкам в будущее, для все больших достижений. Б.М. Гаспаров скрыто спорит со многими возможными оппонентами Пастернака, в том числе теми, кто упрекнет его в принятии быта, в согласии с его тягучими закономерностями. Оказывается, наоборот, неожиданное вхождение в быт и есть тот взрыв недоумения, заставания друг друга врасплох, которое и порождает мысль о Другом.
Другая важная мысль книги Б.М. Гаспарова – мысль о контрапункте, который рассматривается не просто как техника организации лирического материала, но как трансжанровая конструкция, позволяющая повествованию обыгрывать лирический опыт, а лирическому опыту выстраивать свои размышления, размечать ими, как вехами, повествование. Преодолевая и инерцию русской лирике, с ее перемежающейся эмоциональными всплесками нарративностью, отложенным взрывом действенной эмоции, и свой философский опыт, Пастернак создавал особую лирику, способную мыслить.
Б.М. Гаспаров настаивает на том, что выбор Пастернаком неокантианства в качестве суровой школы мысли был необходим: это позволяло не увлекаться «открытиями», но всякий раз создавать контрапункт собственной судьбы к привычным явлениям мира. Другие философские системы расслабили бы поэта, он бы ждал милости от языка, а так он умел заставить даже время и пространство прислушиваться и узнавать, что именно нужно делать.
Здесь интересно, как Пастернак переходит от техники познания философии к технике познания мистического опыта. То самое «Чтоб не скучали расстоянья», что мог бы сказать Иоанн Златоуст о молитве как гонящей скуку, означает именно то, что вообще поэтические описания описывают технику жизни, которая увеличивает расстояния, а лирика позволяет не увлечься и не заскучать. Изучение тех философских и богословских подпорок, которые возвращали лирику Пастернака к большому лирическому дыханию, втягивающему будущее в только что изобретенный смысл – дело дальнейших исследований. Но после чтения книги Б.М. Гаспарова как по-пастернаковски звучат слова Лейбница, и назвавшего Бога «творцом существований» (existentificans). По Лейбницу (о чем пишет Жан-Франсуа Куртен в «Словаре европейских философий» Барбары Кассен), Он творит возможные существования, иначе говоря, имеющие в себе «будущность существования» (existurire), то существование, которому еще только предстоит прийти и подтвердиться. Возможность привносит в него именно его будущность (futurition). «Вот почему можно сказать, что всё возможное имеет будущность существования, почему и утверждено в сущем необходимостью существовать актуально, без чего нет никакого способа для возможного перейти в актуальное». Ритм Пастернака, ритм Пастернаковской судьбы – лучшее озвучивание размышлений Лейбница и лучшая их реализация.
Довгий О.Л. «Развернуть старика…»: Сатиры Кантемира как код русской поэзии; Опыт микрофилологического анализа. М.: Издательство Кулагиной, 2012. – 436 с. – 200 экз.
Антиох Кантемир желал быть одним из сподвижников Петра Ι, а стал восприниматься потомками как создатель русской лирики. Хотя элегические нотки в его Сатирах вряд ли можно считать примером лиризма, а поспешно выложенные перед читателем топосы – образцом лирического настроения. Просто с положением Кантемира в русской литературе произошло такое же смещение, как и с его положением в самой петровской России.
Для Петра I молдавские господари были союзниками в будущей войне с османами, были, можно сказать, проводниками его политических желаний и постоянными генераторами идей будущей православной вселенной под руководством Императора. Но Петр полюбил Петербург, стал восприниматься как житель Петербурга, а Кантемиры – как жители Москвы. В Петербурге была военная сила, а в Москве – старая дипломатия. В Петербурге – новый порядок управления и решения дел, а в Москве – идеи, даже самые мобилизующие.
Петру Великому был важен жест, способный демобилизовать любую мобилизацию, и искусством такого жеста он владел, тогда как Кантемир стал истолкователем этого жеста: превращения человека в грозу, парсуны в портрет, риторического сравнения в реальное политическое действие, статуарного величия в новый порядок управления. Где Петр действовал решительно, не задумываясь, с небывалой непосредственностью, там Кантемир оттачивал свое литературное умение, стремясь сохранить на будущее дипломатическую изощренность даже при навыках мгновенной мобилизации.
Кантемир – настоящий поэт-дипломат, посредник между языками и культурами, дипломат, действующий в условиях чрезвычайного положения, и поэтому очень доверяющий языку – его метафорам, поговоркам, устойчивым выражениям и сравнениям. Можно сказать, Кантемир стоит у истоков таких свойств русской лирики, как развернутые нюансированные описания, самоирония, внимание к переменам в погоде и атмосфере (качество, тоже важное для дипломата), допущение простонародного говора, восхищение роскошью и обилием благ цивилизации (от сытного обеда до калейдоскопической перемены пейзажей за оконным стеклом новейшей выделки).
Но также, как показывает О. Довгий, сюда нужно отнести несколько сбивчивую повествовательность, спотыкающуюся о любое перечисление, обилие басенных сравнений (ветер – непостоянство, а солнце – царь), которые не укладываются в старую топику, а представляют собой мгновенные зарисовки происходящего, большое количество контрастных и антиномичных эпитетов. То, что русская лирика начала играть на контрастах, а не на сходстве, на том, что всякое действие вызывает противодействие, а всякое размышление – противоположную ему эмоцию, что всякое желание приводит в действие очередные бездны – все это итог тогдашней революции петровского времени.
Судьба кантемировского наследия в Москве печальна: никакой архитектурной памяти (во всяком случае, в активе москвичей) о них не осталось. На месте регулярного сада с фонтанами и боскетами, принадлежавшего Кантемирам, теперь парк на Бульварном кольце, поименованный в честь большевика Милютина. Как будто нет никакого значения у Кантемира, кроме как быть в антологиях. Но книга О. Довгий показывает, что Кантемир – меньше всего антологический поэт: его сатиричность, его парадоксальная злободневность, его умение развернуть готовую риторику в избыточные и пресыщенные описания – все это никак не вяжется с артикуляцией лирического настроения в антологиях.
Антология требует закреплять за каждой вещью какое-то одно свойство, тогда как в лирике Кантемира каждая вещь обладает множеством свойств, каждая вещь не просто поворачивается разными гранями, но облекается в разные смысловые одежды, носит сразу несколько одежд и готова значить любым своим жестом. Так Кантемир предопределяет и будущее русской лирики: служить не просто жанром индивидуального размышления, но показывать, что ни один ценный предмет не может до конца вписаться в стихотворную строку, что он заявит о себе с полной властью.