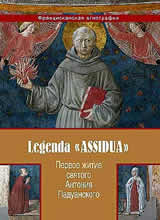Im Anfang war (k)ein Gott
Пять книг на неделю

Медникова М.Б. Неизгладимые знаки: татуировка как исторический источник. - М.: Языки славянской культуры, 2007. - 216 с., илл. - (Studia naturalia).
Высокогорные Альпы. Осень 1991 года. В толще тающего ледника, на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря найден труп. Поначалу его приняли за погибшего под горной лавиной горнолыжника, но в лаборатории Инсбрукского университета установили его доподлинный возраст - 5300 лет. Несчастный, естественным образом мумифицировавшийся в леднике, оказался жителем Южного Тироля эпохи бронзы и погиб в горах во время непогоды. Тело его отлично сохранилось, и археологи получили уникальный шанс прикоснуться к далекому прошлому. Ему было не больше 40 лет. Во время своего последнего ужина он ел мясо и зерно. Незадолго до гибели он прошел мимо поля дикорастущей пшеницы, и спелые зерна пристали к краю его одежды. Рядом с телом обнаружили замороженную терновую ягоду - значит, дело было осенью. Зубы здорово стерты. На скелете - следы немалых физических нагрузок. Он страдал артритом и имел сломанные ребра и обморожения. Но больше всего ученых поразили его легкие - они были абсолютно черные (время у дымного костра не прошло бесследно). В волосах - большая концентрация меди, он часто присутствовал при обработке этого металла: либо занимался литейным делом, либо помогал кузнецу. Никакого прогресса: как и современный человек, он страдал от болей в пояснице.
На коже нашего ледникового тирольца сохранились татуировки (и, видимо, нет такого доисторического человеческого времени, когда татуировок не было, - они были всегда). Всего - 58! Большинство из них - в форме точек и коротких линий, наиболее сложная - в форме креста.
От этого послания тысячелетий и антропологического детектива аж в глазах темнеет. Хочется побежать и откопать что-нибудь столь же головокружительное и любопытному потомству полезное или по крайней мере понять то, что столь неожиданно и счастливо открыли другие... Вот тут-то, казалось, и должен пробить в гулкий и призывный колокол час антрополога, занимающегося тату, но час Медниковой на этом бьет и валит ее в глубокий ров так и не начавшейся, но полагающейся службы. Она спешит к другим сюжетам, другим эпохам, на запятках канареечной кареты облетает континенты, бросает одно, хватается за другое, чтобы наконец стремглав перейти к современности, которая на крюках дорогого ей постмодерна выдержит все и позволит связать что угодно с чем угодно (даже Бабу Ягу с палеолитическими венерами и Гарри Поттера с символической трепанацией черепа). Конечно, источников и археологических данных кот наплакал, но не в этом дело, автор и этими немногими пренебрегает.
Милая продавщица на Рогожском рынке, увидав случайно выпавшую из рюкзака книжку "Неизгладимые знаки", мгновенно заинтересовалась. "Да, - подумал я, - Медникова не прогадала!" Мода и еще раз мода - вот что руководило ею. И как это понятно и извинительно, что каждому серьезному ученому хочется написать свою академическую "Лолиту", кормящую и окупающую все его тайные страсти, жажду славы и интеллектуальное властолюбие.
Ну, начнем с того, что эта модная книга, сделанная по принципу "и в нашей Gucci боевой, кипучей", не соответствует своему названию. Татуировке, среднему звену между шрамом и рисунком на теле, посвящено едва ли полкниги. Остальное - разговоры вокруг да около. Доисторический человек - загадка. С чего бы вдруг каким-то знакам на его теле стать прозрачными структурами? В итоге одно неизвестное приходится объяснять через другое и использовать в качестве исторического источника то, что является элементом бытия доисторического существа и не обладает каким-либо существованием такого рода. Но автора, похоже, все это не смущает. Историей Медникова не занимается вовсе: "По крайней мере уже 40 тысяч лет с человечеством не происходит ничего такого, что не укладывалось бы в обычные рамки микроэволюционных процессов" (с. 206). Тогда о чем речь? И если истории нет и татуировки не меняются, то сам бог велел выявить их феномен как таковой, так сказать - в чистом виде. Но Медникова, обещав нам их как исторический источник, вернуться к эдему этой сладкой понятийной чистоты уже не в состоянии. Поэтому ей приходится выкручиваться и придумывать то, чего нет.
Книга не оригинальна, но не в этом главная беда, а в том, что старательная и, уверен, профессионально честная Медникова не может интересно и осмысленно даже пересказать интересные и осмысленные западные работы на эту тему.
Антропология для нее - какая-то сверхнаука, царица всех наук, имеющая не сугубо кабинетный, а широкий вероучительный и экзистенциальный смысл: "...По моему глубокому убеждению, - пишет она, - [антропология] способна решить самые существенные и актуальные вопросы нашей жизни" (с. 7). Но чем больше читаешь книгу Медниковой, тем больше убеждаешься, что антропология в ее исполнении - это какая-то беспросветная сандрильона и зачахшая рабыня всех наук: культурологии, семиотики, археологии, фольклористики, психоанализа ("погибла муха за идею, цена которой - грош"). Держу пари, что на вопрос, чем антропология отличается от другой реалити-науки - культурологии, Медникова, приговоренная какой-то злой волей к шоу "Пещера-2", вынуждена будет признать, что, пожалуй, ничем: культурология начинает с человека, а заканчивает культурой, а антропология - наоборот. Но онтологизация понятий и абсолютизация языка описания и там и там одинаковы.
Если она первой главой задается вопросом: "Татуировка: что это такое?", то будьте уверены - ответа не последует.
Хорош, однако, антрополог, который учит, резонерствует, предостерегает! В списке литературы статьи Алексея Юрьевича Плуцера-Сарно (в девичестве - Микулина) о воровских татуировках следуют за Плутархом. Я бы эту несправедливость поправил: сначала должен быть Плуцер, а потом - Плутарх.
Жидель А.Пикассо / Пер. с фр. Л.Ф.Матяш. - М.: Молодая гвардия, 2007. - 374[10] с.: илл. - (Жизнь замечательных людей: сер. Биограф.; вып. 1968).
Знаменитый художник - как каменный истукан острова Пасхи: чем больше на него смотришь, тем он таинственней. И чем больше говорят о Пикассо, тем он непроходимее и прытче.
Жизнеописание вышло в 2002 году в парижском издательстве "Flammarion", и "Молодая гвардия" похвально поспешила с переводом и изданием, что, однако, неудивительно, учитывая гигантский вал книжной продукции серии "ЖЗЛ".
Французский биограф необыкновенно плодовит (если Музу раcтаможить, Музу можно и размножить) и сей увесистый труд успел закончить между своими занятиями Коко Шанель и Сарой Бернар (книжки 2000-го и 2006 года соответственно). Эта изрядная ловкость и скоропалительность тем приводит к тому, что многочисленные достоинства книги Жиделя являются и ее недостатками. Она спокойна, обстоятельна и взвешенна в суждениях - никаких острых углов и открытых проблем, никакого напряжения стиля и мук самовыражения. Все гладко и ладно. Даже когда речь идет о творческих муках или, к примеру, о том, как неистовый Пикассо, зачастую скандализировавший резкостью и независимостью своих мнений, склонный к иронии и даже сарказму, не мог закончить картин. Ну, это Пикассо не мог закончить, а у его ловкого биографа, однако, все просто и ясно, а уж почему он не мог завершить начатое - не наше дело, здраво рассуждает Жидель. Друг Пикассо Ж.Леймари вспоминал, что как-то в доверительной беседе с художником услышал странную жалобу: "Трудно привнести хоть чуточку Абсолюта в лягушачий пруд". У Жиделя не только пруд не получается, но и обмакивание в него кисточки абсолюта. Но по-своему он прав и неподсуден, иначе не видать целостного и законченного очерка жизни.
С истинно коммерческой затравкой и пониманием того, что любовные связи Пикассо - самое интересное после цен на его картины, Жидель не жалеет времени и целомудренных сил на выписывание отношений художника с его многочисленными подружками и женами. Это беспроигрышно для успеха книги и - жди, как вол, обуха! - абсолютно провально для уяснения Пикассо самого по себе.
Но самое печальное заключается в том, что и мудрейший Жидель сверхнаивно и натуралистично полагает, что прежде чем попасть на полотно, то или иное событие случается в пикассовской жизни. Он не настолько глуп, чтобы отказывать искусству в воображении, но на деле в его биографии всегда имеет место примитивное и неминуемое отражение действительности в живописи его героя.
И это заблуждение тотально неистребимо! Поэтому простим старика Жиделя, попал и он, как черт в рукомойник. Тому, что появилось на картине, в реальном мире ничего не соответствует. (Я сплю и слышу звонок в дверь, а мне снится заутреня. В реальности колокольному звону соответствует... звонок в дверь. Но это абсурд! Звонок - случайная причина, и она никак не сможет объяснить, почему я услышал именно колокола, а не, скажем, звук лязгающей гильотины, в какой сюжет они встроятся и т.д.) То есть мы, конечно, всегда можем соотнести, сопоставить изображение с каким-то эмпирическим предметом. Но это возможно только после того, как картина уже самозародится. Творимое самополагается, а сходства между образом и прототипом ничуть не больше, чем между венерической болезнью и божественной Венерой. Сама по себе картина - это представление ничего. Флобер говорил о своей "Госпоже Бовари", что его роман - "ни о чем". То, что вне мысли, не может быть причиной того, что имеет место в мысли. "...Могу, - клялся фонвизинский Тарас Скотинин, - пред целым светом по чистой совести сказать: ездил я ни про что, привез ничего". В нашей ведомости тот же закон: куда бы я ни отправлялся в реальном мире, иду я "ни про что", и что бы ни брал с собой, возвращаюсь, с превеликим трудом удерживая на плечах это бесценное "ничего"; я, как сказали бы в Средневековье, solus cum Deo solo [один на один с Богом]. Невозможно, сравнивая образ предмета в уме с этим же предметом в мире, приводить их в соответствие. Причиной понятого и высказанного не может быть обстояние дел в мире. Это, вообще говоря, свойство формы - производить внутри текста эффекты, которые не являются ни описанием, ни изображением. Поэтому приходится признать, что события романа новейшего времени порождены формой самого романа, а не попадают в него извне, достигая той высоты исключительного совершенства, которое само начинает производить собственное содержание. Здесь не душа нарождается в теле, а тело в душе. Роман - воспроизводящий себя на своих собственных основаниях сам предмет, а не отражение предмета. Так же обстоит дело и с живописью.
Итак, никакого анализа творчества, только человечинка Пикассо. А что это за человечинка, позвольте спросить, без живописи? Так, морковный кофе.
Первое житие святого Антония Падуанского. Legenda "Assidua". - М.: Издательство Францисканцев, 2007. - 240 с.
Этим житием, составленным в 1232 году, сразу после причисления подвижника к лику святых, московское издательство Францисканцев открывает новую серию публикаций, объединенных темой "Францисканская агиография". Этому почину предшествовало несколько книг, посвященных св. Антонию (Верджилио Гамбозо. Святой Антоний Чудотворец, 1995; Молитвенник св. Антония, 1997; Вильгельм Хунерман. Святой Антоний Падуанский, 2-е изд., 2004).
Антоний Падуанский - один из самых известных западных святых. Чтобы поклониться его мощам, покоящимся в величественной базилике в Падуе, в этот итальянский город ежегодно приезжают более трех миллионов паломников со всего мира.
Похоже, мы уже никогда не узнаем, кто был автором жития, созданного по заказу францисканцев. Но на этом сюрпризы не кончаются. Сам св. Антоний тоже окружен непроницаемым ореолом таинственности. Ничего нет о многочисленных чудесах, которыми кишит легенда. Нет на страницах Assidua и св. Франциска - главным остается идеал евангельской и апостольской жизни, основателю же ордена отводится второстепенная роль служителя воли Божьей и нового монашеского института, который развивается самостоятельно. По житию выходит, что Антония привлекает не харизматическая личность Франциска, а жажда миссионерства и мученичества.
Цель, которой задается анонимный автор жития, предельно проста: слушая о деяниях, совершенных Богом через святых, верующий получает стимул всегда и во всем прославлять Всевышнего и одновременно обретает любовь к ближнему и слышит призыв к более ответственной христианской жизни. Итак, цель трояка: хвала Бога, почитание святого и стремление достичь евангельских добродетелей. Не случайно главный купол базилики св. Антония в Падуе копирует купол храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Антоний известен как прекрасный проповедник, и это издание идет рука об руку с другой книгой московских францисканцев, по сути, впервые представившей его русскому читателю, а именно: Св. Антоний Падуанский. Проповеди (1997). Так что появление жития более чем уместно. Оно прекрасно переведено Ольгой Карповой, снабжено предисловиями и основательными комментариями. Отличная и очень полезная вещь.
Спасибо братьям-францисканцам!
Иннокентий Анненский. Театр Еврипида / Сост., подг. текста, коммент. В.Гитина; вступ. ст. М.Л.Гаспарова. - СПб.: Гиперион, 2007. 528 с. - (Античная библиотека "Гипериона", II).
Римская двойка в описании означает серийность - первой книгой античной библиотеки "Гипериона" был "Опыт о Метаморфозах" Ю.К.Щеглова. Серию вел покойный Михаил Леонович Гаспаров. Приключения и столетние трансмутации "Театра Еврипида" - отдельная печальная повесть, которую корректно и увлекательно поведал в приложениях и комментариях Владимир Гитин. Именно его неусыпным трудам и проискам филолога-однолюба обязана читательская публика доведением до печатания считавшихся утерянными рукописей Анненского. Пятеро из вышеперечисленных персонажей литературного театра более или менее всеобще известны. Потому мы не будем говорить о Еврипиде, Овидии, Анненском, Гаспарове и Щеглове.
А очень кратко предъявим неизвестного широкому читателю Гитина, пусть и в несколько неожиданной для слависта ипостаси. Для показа слово предоставляется фотографическому сообществу Израиля (http://m.boti.ru/node/30444). Один из тамошних энтузиастов пишет в псевдоодесской, далекой от политкорректности манере: "Скоро в Израиль приедет мой хороший знакомый, очень приятный человек, интеллигент, эстет, фотограф-любитель, отличный портретист Владимир Гитин. "Вы знаете, что такое американский университет? Это место, где еврейские профессора из России преподают математику китайцам" - это почти про Владимира, правда, преподает он не математику, а насчет китайцев - не знаю. Владимир - профессор Гарварда, доктор русской славистики, рекомендацию для поступления в докторантуру Гарварда ему давал Иосиф Бродский".
Для фотографа ошибки в дефиниции простительны, потому сразу же последовало привычное к комментированию спокойное исправление Гитина: "Только рекомендацию мне давал не Бродский, а Ефим Эткинд, один из друзей Бродского, профессор Сорбонны. А с Бродским мы просто обсуждали варианты аспирантур. Что-то вы меня приукрасили. Теперь все будут ко мне с подозрением относиться".
Смеем заверить, что и фотопортреты хороши, а уж к Гитину-исследователю мы относимся без всякой предвзятости и подозрительности, но с невероятным жаром и почтением. Издательские метаморфозы завершены, вес взят - перед нами прекрасно подготовленная и достойно изданная "Гиперионом" книга Иннокентия Анненского. Итак, читаем Еврипида.
Ганс Кюнг. Начало всех вещей: Естествознание и религия / Пер. с нем. (Серия "Богословие и наука"). - М.: Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, 2007. - 250 с.
Новая книга швейцарского католического богослова Ганса Кюнга, слава богу, здравствующего до сих пор, не может сравниться с его же бестселлерами "Быть христианином" (1974), известным еще в советское время в самиздате, или "Существует ли Бог?" (1978), но и она, уверен, найдет своего пристрастного и верного читателя.
Книга вполне популярного свойства, и это должно прозвучать как комплимент. В своем неспешном, зрелом и выверенном очерке Кюнгу вполне удается ясно и доходчиво говорить о материях самых многотрудных и глубокомысленных.
С одной стороны - история вопроса о взаимоотношениях естествознания и веры, с другой - смелая попытка "мятежного католика", как называют Кюнга, разобраться в их современном состоянии. Он далек от слепой гордыни веры и самонадеянности последних ответов. Перед нами скромное и достойное стремление описать круг проблем, и только (поэтому в названиях глав преобладают вопросы: глава 1. Объединенная теория всего?; глава 2. Бог как начало?; глава 3. Сотворение мира или эволюция? и т.д.).
С таким авторитетом, как Кюнг, трудно спорить. И все-таки два - нет, не возражения! - а просто два довода на жернова кюнговской открытой полемики. С таким нечеловеческим трудом дающееся согласование науки и веры объясняется тем, что, во-первых, сама вера в XX веке претерпевает глубочайший кризис, более того - христианство, от лица которого выступает Кюнг, не выдержало испытания временем и продолжает катастрофически терять авторитет и влияние в изменяющемся мире. Кюнг лично пострадал в этих испытаниях - еще в 1979 году его лишили права преподавать теологию от имени католической Церкви! Отношения веры и естествознания - скажем прямо, не самый больной вопрос современности. Однако не только религия, но и естествознание, переходя от классической к неклассической картине мира, перестало понимать себя - как уж тут им договориться между собой! И понимание ими себя является условием и залогом понимания друг друга, а не наоборот.
Каламбур, звучащий в названии этого текста: "Im Anfang war (k)ein Gott" - означает, что в одном случае "В начале был Бог", а в другом - о ужас! - "Никакого Бога в начале не было". И все дело лишь в одной казнящей букве - "k". Есть она и в имени Кюнга.
А в общем, естественно и научно решите - "Берешит" или же "берешит" (минерал "тефрит нефелиновый")...