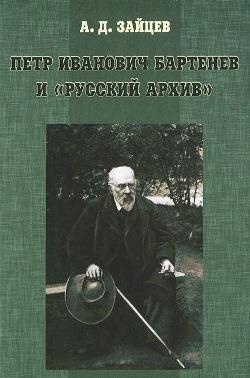Труженик

Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев и «Русский Архив» / Отв. ред., сост. С.О. Шмидт. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. – 480 с.
Данной книге довелось стать трижды мемориальной, хотя задумывалась она только применительно к двум «пунктам памяти» - к 150-летнему юбилею начала издания журнала «Русский архив» и в память первого исследователя биографии и журналистской деятельности Петра Ивановича Бартенева, Андрея Дмитриевича Зайцева, скончавшегося всего сорока шести лет от роду в 1997 г. и оставившего после себя одну единственную книгу, выпускаемую уже третьим изданием. Однако случилось так, что инициатор этого издания, его редактор и составитель, поместивший под одной обложкой еще и статьи Андрея Дмитриевича, посвященные разным аспектам издания «Русского Архива», а также ряд специальных исследований уже последних лет, посвященных тем же проблемам, Сигурд Оттович Шмидт не дожил до сдачи рукописи в печать – и она стала одной из последних работ, над которой ему довелось трудиться [1].
Общеизвестно, что XIX век был «веком истории» по преимуществу, охваченным сознанием своей историчности, напряженным вниманием к прошлому – которое, расширяясь, за несколько десятилетий выросло в принципиально безграничный интерес – ко «всему в прошлом», создав то пространство, где пересеклись и соединились в рамках нового «исторического знания» прежние «антиквары» и «историки», отчасти включив в свои ряды и прежних любителей и знатоков «курьезов», обладателей и описателей «кунсткамер», «собраний исторических редкостей». Стивен Бенн, в частности, отмечал: «в некий момент XIX века люди начали оформлять комнаты в стиле определенного исторического времени. То есть они брали полный набор мебели французского замка (включая стены и пол) и в Филадельфии помещали его в новую комнату идентичных с замком размеров. <…> До 1820 года никто не понимал того, что историческую эпоху необходимо воссоздавать всеобъемлюще» [2]. Как бы мы теперь – с точки зрения нынешнего понимания «аутентичности» – не относились к такого рода предприятиям, они знаменуют ключевую перемену в понимании «исторического» – не как набора отдельных элементов, которые можно перечислить, позаимствовать в том составе, который определяется текущим интересом, но в качестве «целостности», «тотальности», где значимым является все – от колонн до ковров на стенах и формы стула. Эта значимость целого означает, что в принципе каждый элемент прошлого должен быть сохранен – или восстановлен – для понимания прошлого, не существует «самодостаточных» с исторической (а не эстетической, напр.) точки зрения вещей – то, что представляется малозначительным, будучи устранено или утрачено невосполнимым образом приведет к неверному пониманию целого. Ограничитель, с которым сталкивается подобное понимание – фактического плана: в невозможности сохранить все, в напластовании разных эпох, когда необходимо выбирать – что именно надлежит сохранить или что надлежит восстановить (например, при исторической реконструкции, когда приходится выбирать, по состоянию на какой период эту реконструкцию осуществлять, заведомо жертвуя другими периодами). Но этот упор, подчеркнем еще раз, имеет фактический характер – и, следовательно, надлежит сохранить все из того, что сохранить возможно [3].
Бартеневский журнал, знакомый всем не только занимавшимся профессионально историей русского XVIII или XIX века, но и просто любителям, когда-либо на значительный срок останавливавших свой интерес на событиях того времени, примечателен тем, что фактически был собранием сведением о недавней, а иногда и «современной истории», публикуя в 1870-е, например, массу материалов о 1840-х гг., а иногда и о событиях, отделенных от времени публикации лишь несколькими годами. В этом отношении он принципиально оказывался за рамками «академической» или «университетской» исторической науки, работая с такого рода источниками, которые «большой историографией» в рассмотрение не принимались – отдаваясь на откуп журналистике, куда менее стесненной в преодолении профессиональных перегородок и нарушении установленных правил. Так, Бартенев – и здесь он отчасти созвучен, например, с кн. П.А. Вяземским с его «Старой записной книжкой», фрагменты которой публиковались, кстати, в том же «Русском Архиве», – активно использует ресурсы «устной истории». Наиболее известным образчиком его деятельности в этом направлении является многолетнее собирание материалов о Пушкине, когда он спешил расспросить и тщательно зафиксировать воспоминания тех из современников и знакомых поэта, кто еще оставался в живых, но также обращаясь и к рассказам, приходящим через более сложную цепочку передачи, храня предания и легенды – совершенно справедливо считая их также ценным историческим материалом (рассказы эти, большая часть которых появлялась в виде небольших заметок и примечаний на страницах журнала, была собрана и опубликована уже в 1925 г. М. Цявловским). Многие из мемуаров, опубликованных на страницах «Русского Архива», были прямо или косвенно инициированы Бартеневым – но особенно примечательно, как он тех авторов, кто либо не желал, либо оказывался неспособен на составление связанных мемуаров, подталкивал тем не менее к оставлению мемуарных свидетельств, посылая вопросы, расспрашивая – или, как в случае, напр., с Липранди, посылая ему «Записки» Ф.Ф. Вигеля и прося оставить свои замечания по поводу в них сказанного.
История, на которую нацелено внимание Бартенева – это близкое, а иногда и совсем близкое прошлое, то, что случалось еще на памяти ныне живущих либо их ближайших предков – т.е. то, которое пребывало еще во времена молодости Бартенева в зоне «публичного молчания», ограничиваясь лишь немногими устными разговорами да пересудами. В бытность в университете специализируясь на истории Древней Руси, организуя само издание как скорее библиографический справочник (к тому же – на волне увлечений того времени – обещая особое внимание к «славянским народам» и «славянской словесности»), он очень быстро превратил его в журнал, освещавший недавнее – не столько «потаенное» (хотя и не без этого: именно трудами Бартенева рукопись «Записок» Екатерины II попала в руки Герцену, переписанная рукой Авдотьи Петровны Елагиной), сколько «неназываемое» прошлое. За два года до смерти диктуя воспоминания дочери, он отмечал роль знакомства с графом Блудовым в 1852 г. (воспитателем внуков которого некоторое время являлся):
«Беседы с графом Блудовым и мои расспросы у него были для меня тем, что Немцы зовут historische Vorstudien. В то время почти ничего не позволялось печатать об Русской истории XVIII века, вследствие ненависти Николая Павловича к памяти Екатерины Великой, внушенной ему его матерью; Блудов же был необыкновенно словохотлив, и я внимал ему, напояема» [4].
Через Блудова – а к нему через славянофилов, с которыми он был очень близок – Бартенев сумел к 1860-м войти в общение с верхами русского дворянского общества. Сам принадлежа скорее к низам дворянского общества (хотя и имеющий право гордиться почтенной родословной), почти без состояния, он сумел предложить то, в чем нуждалось русское дворянство той поры – память о близком прошлом, соединение своих судеб с «большой историей» и с историей других семейств, создавая на страницах «Русского Архива» некий журнальный аналог «Грибоедовской Москвы»: в его подписчиках оказались почти все имеющие вес в обществе или в правительстве русские дворяне, даже не особенно интересующиеся историей – поскольку на страницах находили упоминания или подробные рассказы о своих предках, родственниках, знакомых или о самих себе. Титаническим трудом ему удалось стать одним из ключевых создателей образа русского XVIII – и, в еще большей степени, русского XIX века. О том, каких трудов стоило Бартеневу его дело, говорит следующий эпизод, один из последних, записанных под диктовку дочерью: «Уроки мои давал я так усердно, что к Алексеевым в Рогожскую ездил даже на другой день по смерти старшего сына моего Алексея 20 ноября 1864 года, когда Федя только что родился и мать их лежала в постели. Алексеевы потом мне говорили, что не знали, что подумать, глядя на меня: на лице у меня были желтые и синие пятна, но того, что я тогда получал с доставшихся мне от матери денег и жалованья по заведыванию Чертковской библиотекою, было мало на прожиток, а дети рождались ежегодно. Соболевский говорил про меня: что ни год, то ребенок и книга» [5]. Характерно, что в отзывах о людях, ему симпатичных, Бартенев чаще всего называл в качестве первой черты «труженичество», «трудолюбие» - то, что он ценил больше всего (и что, отметим попутно, сближало его со столь внешне далеким В.Я. Брюсовым, три года проработавшим секретарем в редакции «Русского Архива»).
Образ русского близкого прошлого, созданный во многом трудами Бартенева, оказался столь убедителен от того, что собирался преимущественно из личных историй, портретов, зарисовок – идя от «человеческого документа», от личного свидетельства, со стремления сохранить которое и началась собирательская деятельность издателя и редактора, спешившего записать устные рассказы о боготворимом им Пушкине. Ощущение хрупкости прошлого, зависящего от памяти немногих, их усилий по ее сохранению и фиксации, придавало «Русскому Архиву» особую интонацию, резко отделявшую его от вроде бы близких по форме изданий, таких как «Русская Старина» или «Исторический Вестник» – ее легче всего уловить в частых, обычно в несколько строк, примечаниях, помеченных буквами «П.Б.» или вовсе анонимных, в которых Бартенев как истинный владелец архива в немногих словах пояснял и прояснял не только неясные моменты в тексте, но и указывал иногда на обстоятельства, подробнее «неудобоизлагаемые в печати», отсылая к своей памяти и своему собранию – постепенно превращавшемуся в уникальный памятник русской истории – в том ее тотальном понимании, как оно было увидено историческим сознанием XIX века.
Примечания:
[1] Жаль, правда, что за прошедшие со времени первого издания работы А.Д. Зайцева годы – вышедшей в популярной серии «Московского рабочего» в 1989 г. – изучение и биографии Бартенева, и тесно связанной с нею истории «Русского Архива» и примыкающих к нему изданий (таких, как четыре выпуска «Осьмнадцатого века», два выпуска «Девятнадцатого века», сорок томов «Архива князей Воронцовых» и др.) мало продвинулось вперед. Так что работа, отмеченная и некоторыми (отчасти неизбежными) уступками «своему» времени, и являющаяся первым приступом к теме, по прежнему остается единственным общим и относительно подробным очерком жизни и деятельности Бартенева. Из обширного архива Бартенева были опубликованы, трудами А.Д. Зайцева, лишь «Воспоминания» (в кн. I «Российского Архива», 1991 г.), да в 2000 г. в «Историческом архиве» (№№ 1,3,4) помещен дневник Бартенева за 1854 – 1858 гг. – его огромное эпистолярное наследие и письма к нему (им заботливо сберегаемые и переплетаемые в погодные фолианты) остается преимущественно не изданным (и слабо изученным) даже в части наиболее интересных для широкой публики (не говоря уже о специалистах) адресатов.
[2] Бенн Ст. Одежды Клио / Пер. с англ. М. Кукарцевой, А. Макарова. – М.: Канон+, 2012. С. 36 – 37.
[3] Другое дело, что наряду с «историческим» сохраняется область «неисторического», отождествляемого с «природным», «естественным» и т.п. – как, например, производится разграничение между историей и этнографией, где ведению второй отводятся «религиозные верования» или «обряды русского народа», предполагающие суммирование, обобщенное описание – и, по крайней мере, меньшую чувствительность ко времени (и где наибольшую ценность имеют «пережитки», «предания старины» - в силу если не неизменности, то меньшей исторической изменчивости, приписываемой «народу»).
[4] Бартенев П.И. Воспоминания / Подготовка текста и прим. А.Д. Зайцева // Российский Архив. – 1991. – Кн. I. – С. 76.
[5] Там же. С. 93.