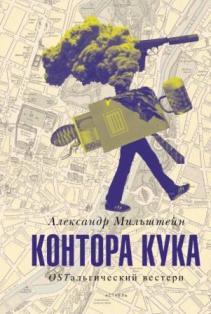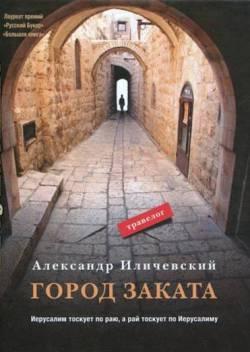Три книги от Ли Сина
Надир Сафиев, Александр Мильштейн, Александр Иличевский
Совсем неудивительно обилие биографических романов. Да, в определённом смысле, других и не бывает. Слова меняют свой смысл по мере роста писательского мастерства, но разве меняется писатель от вспоминания давно позабытого? Если меняется, то, очевидно, в ту сторону, куда не смотрят обычные, непомнящие себя люди. Но ведь миллионы туристов, миллионы пишущих посты, увешанных фотогаджетами туристов. Почему они не писатели? Просто есть два вида памяти. Одна – для эсэмэсок, фото и постов, другая – «помнить себя». Да это ведь и есть самое лучшее, внутренний цимес писательства – помнить себя, своё, своих. Одно из двух, или подмена себя кем-то другим, неопределённым, расплывшимся «облаком в штанах» туристом, подмена памяти абстрактной схемой, подмена воображения рассудком, чувства – представлением о чувстве: из-за невозможности вспомнить точно. Или вспоминание себя до глубины элементарного ощущения, способность извлечь ощущение из памяти, новый орган восприятия, как в «Поисках утраченного времени». Неспроста так часто думал о писателе Прусте философ Мамардашвили. Без точной памяти, к которой невероятно трудно пробиться (если писатель не прирождённый эйдетик), не будет сильного воображения, которое зиждется на чёткости всегда раньше нас существующего объекта, даже если этот объект мы сами, субъект. Ну, а без воображения невозможно удержать мысль и тогда всё пропало, караул.
Биография это география, геология и, особенно, археология. Любое описание путешествия в города и страны невозможно без перемещения между пунктами биографии пишущего. Писатель начинает играть за себя, выпучивая своё ячество, переходит к ужасу вспоминания и делает скачок к романной форме, к полной отстранённости: таким образом местоимения меняют свою начинку. Это несносное, невыносимое личное «я» становится романным «я, ты, он, она», (архе)типическим образом, типажом, лекалом и матрицей для помощи нам, читателям – в восприятии себя. Увидеть, вспомнить, выследить себя – цель любого травелога, как пути к смирению, равновесию с миром. Чужое точное вспоминание это опора нашего воображения и мысли до тех пор, пока не удаётся вспомнить себя. Так что читаем эти три путевых дневника и помним - краеведение суть антропология: «Да принесут горы мир людям и холмы правду» (псалом 71).
Надир Сафиев «Повести арбатского жильца».
М.: ИД «Ключ-С», 380 с., 3000 эк., 2012
Дворяне ли мы? Кто-то да, на зависть КПРФ. Но есть географические особенности распределения этого мифического после 1917 года «спайса», дворянства. Во-первых, арбатство, растворённое в крови, неистребимо, как сама природа. Во-вторых, я дворянин арбатского двора, своим двором введённый во дворянство. Валентин Никулин поёт эту песню Окуджавы и странная особенность арбатских дворов отчётливо ощущается. О, это чувство утопического дворянства арбатских переулков, ролей В.Никулина и песен Окуджавы, мастерство вахтанговских и консерваторских людей. Не спасает никого дворянство и мастерство, но придаёт смысл месту временного пребывания, наделяет смыслом место и время. Сам Арбат, как особый географический локус Москвы, придавал смысл всей бесконечной Московии. Но всё проходит, всё пропало, снесли Собачью площадку в угоду марсианскому Калининскому проспекту, утонула советская, а на самом деле дворянская, экстатическая, предельно литературная, романтическая цивилизация.
Надир Сафиев редактировал журнал «Вокруг света», писал рассказы о путешествиях в 1970-1990-х годах, он знает толк в путешествиях. А здесь путешествовать читателю приходится по волнам памяти писателя. Приехав на Арбат прямиком из Эстонии, молодой горячий Надир пытается стать великим оперным певцом, благо, что на Арбате огромная плотность людей, учреждений, атмосферы искусства. Эта концентрация театральных, оперных, музыкальных людей стала причиной сугубо биографического акцента повествования: «…с лёгкостью мог заменить «я» на «он» и таким общеизвестным приёмом спустить себя с пьедестала, но мне слишком везло на прекрасные встречи, и я ни за что на свете не хотел бы отдавать их третьему лицу». В какой-то момент чтения кажется, что слишком много обид накопилось у первого лица повествования на прожитую жизнь, но эта кажимость рассеивается точными попаданиями в типажи, ситуации, атмосферу. Иногда остро блеснёт лирическая метафора. А любое правильное остранение, как и блеск, начинается с метафоры, сравнения, мысли.
Встреча с преподавателем Консерватории Евгенией Наумовной Брук для автора стала судьбоносной, в смысле укоренения и роста на культурном поле Арбата. Провалившись на прослушивании в Консерваторию, автор приобрёл друга, начальный капитал для расширения московских знакомств, утверждения своего «я» в пространстве замечательных людей, жителей Арбата. Среди этих жителей, ставших друзьями, - а в нашей нынешней жизни почти невозможно дружить с соседями – сын Евгении Наумовны, только что поступивший в Школу-студию МХАТ Валентин Никулин, ставший звездой театра и кино. Но главным другом оказалась хозяйка квартиры Домна Филипповна, крестьянского сословия душа. Добрая душа, сдала угол древнего дома студенту за гроши, но не это главное. Отчётливо виден срез эпохи – Домны оторвались от своих деревенских домов и волею стального монстра индустриализации уплотнили и освоили арбатские особнячки. Один колоритный персонаж романа, родственник Домны, покорил и освоил советскую систему карьеризма, от должности «пастуха козы» прыгнул к рулю совкультстроительства. Причём эту козу, мирно пасшуюся вдоль забора резиденции американского посла, чуть было не «удочерил» и не отправил на ранчо сам посол, которому надоело слушать её блеянье.
Приятнейший момент повествования – судьбы английского пиджака, эстонских ботинок, шведского пальто автора, кои предметы надо бы назвать с большой буквы, настолько большое влияние имели подобные вещи в судьбе героя. Ну, или ему так казалось. Во всяком случае, все жители творческих ойкумен Москвы знают, что такое фирменный пиджак, тем паче он всегда был единственный. «Пиджак не новый, но фирменный» - любят повторять Митьки за Мамоновым (фильм «Такси-блюз») и они же оперируют фразой «Против бритвы пиджак и брюки» из «Джентельменов удачи». Так что Надир Сафиев, обладатель оперного голоса и арбатский дэнди 1950-х, зарабатывавший перепиской нот, знал на Арбате сотни приличных людей, из которых десяток-другой принадлежал к мировой художественной элите. Все друг друга знали, Рихтер раскланивался с Домной Филипповной, все встречались на концертах Рихтера в Большом зале.
Все самые интересные, замысловатые и даже фантастические случаи общения с этими букинистами, архитекторами, музыкантами, участковыми, послами, домохозяйками, собаками и козами, роялями, пиджаками и квартирами писатель записал, причём настоящая жизнь в арбатских переулках бурлила только до момента сноса ветхо-дворянского жилищного фонда. Вся эта весёлая, временами прохиндейская одесско-арбатская жизнь оказалась агонией древнего места, неотменённого калининскими проспектами. Незаменимы, несравнимы оказались подвалы, чердаки и бельэтажи маленьких уютных коммунальных гнездовий Арбата. Отдельные конуры хрущёвокХорошевского шоссе суть нехорошие квартиры, по сравнению с совместным арбатским коммунхозом выживших потомков дворянских родов и их «уплотнителей».
Александр Мильштейн «Контора Кука»
М.:Астрель, 412 с., 3000 эк., 2013
Вот чьё письмо идеально подходит, выстраивается под ранжир дневника и биографии. Может быть, Мильштейн единственный писатель, количество многоточий в текстах которого никогда не переходит в качество самопального, так сказать, графоманства. У хорошего вспоминателя даже столь осужденное читателями приспособление для замены точных слов, чувств и ощущений – многоточие, даже этот раздражающий девайс применён вполне удобоваримо. Это способ уйти от выхолощенности абстрактных, якобы точных рассуждений, потому что единственное назначение многоточий – намекнуть на недостаточность чтения как такового. Многоточия – расплывчатость бытовой ощутимости предметов быта, пред-метов чувства и мысли. Эта расплывчатость антитеза, двойник дневного сознания, но ещё больше мы спим в движении тела и автоматизме привычек городского выживания. Хорошо спится в молчаливом экшене жестов, прогулок и поездок на метро. Недостаточность слова, опустелость, пустопорожность слова – фирменный философский, попробуем так сказать, посыл Мильштейна. Поэтому никаких прямых биографий, писательское я имеет здесь романную форму «они», совокупности себя и вспомненных людей, окружающих писателя в его бытовании на немецкой, мюнхенской земле.
Такое ощущение, что писатель спроецировал себя в двух персонажей, постарше и помоложе, которые стали героями романа. Больше внимания забирает на себя Паша, молодой разгильдяй, умудрившийся ввязаться в банковскую афёру на постсоветской родине, чтобы бежать без оглядки, спасая жизнь, в пивной Мюнхен. Великолепна сцена Октоберфеста, пивного человеческого моря с плясками на дубовых столах и хоровыми песнями в метро. Многоточия становятся символом булькающей пивной пены жизни. Паша поселился в «доме мола», где можно было из квартиры выйти прямо в гигантский мюнхенский ашан. Однажды он выиграл пятьсот евро, ответив на дурацкий вопрос ашан-викторины, и моловская молоденькая продавщица взялась помочь русс-недотёпе закупить положенный за выигрышный купон товар – феерия консьюмеризма. Девица эта, из отдела игрушек, привязывается к Паше, как… неизвестно кто, или что… Она приходит из своей квартиры в этом же доме – а в её квартире склад игрушек, так дешевле хозяину - и сидит, и молча смотрит в окно, и не даёт к себе прикоснуться. И не даёт… Она сама кукла, одиночество которой потрясает Пашу до печёнок… И всё сгорает, её квартира сгорает, все куклы превращаются в чёрный дым…остаётся чёрная копоть, в которой ковыряются следователи, берут анализ ДНК у всех жителей дома, а девушка-кукла исчезает бесследно. Такова жизнь в Мюнхене.
Александр Мильштейн умудряется самую глубинную экспрессию романа, его подводную смысловую струю вывести, как ни в чём не бывало, на поверхность повествования, производит овеществление, так сказать, сна. Поэтому все его персонажи это не совсем проснувшиеся персонажи, они всё время под патронажем своего тела сновидения. «Сновидец же тем временем сидел в немецком метро и видел, как приходят в движение тени… забытых братков». Бывает, бывает, что… и не такое приснится в метро. А Паша вдруг вспомнил, как он сдавал экзамены, шевеля шпаргалку на колене твёрдым концом галстука, достигая ловкости нечеловеческой. Он вот именно что вспомнил по-настоящему, его пробило реальностью присутствия прошлого в любом текущем моменте. Он стал шевелиться… в метро… как тогда, на экзамене. Мильштейн мастерски, ненароком, раскрывает секрет писательства, его источник – способность вспомнить себя. И тут – завязка романа. Братки сидели напротив, восприняли Пашино очумелое шевеление как попытку подслушать ихний секретный манагерский разговор.
Эти манагеры с большой волыной на кармане пытаются отвести в сторонку случайного свидетеля-соотечественника и пристрелить. Однако Паша не за этим бежал в Мюнхен. Он ничего не понимает, братается с братками и сам отводит их в странный бар с железной комнатой. Барменша пускает их втроём дёрнуть косяка на стальную кухню, напоминающую времена айнзайнц-команд. Странные братки говорят как полукончившие ВШЭ спец-агенты по прокладке секретных транзакций в банки Европы – очевидный намёк на дело Магнитского, или такова правда образа. Герой чует неладное и запирает красавцев в железной комнате, где они растворяются без следа. Старший товарищ Пашы, другая половина альтер-эго писателя, отправляется что-нибудь узнать про эту страннейшую пропажу, встречается с полностью татуированной барменшей, на поверку оказывающейся писательницей из богатой семьи наследственных аристократов… и влюбляется, и… летит в Лондон выкрадывать дневник аристократки.… Но это другая история, как говорится – читайте, не пожалеете. Такие вот мюнхенские арабески…
Александр Иличевский «Город заката»
М.:Астрель, 350 с., 5000 эк., 2012
Это совершенный, образцовый травелог. Поездка в Город заката, Иерусалим, обернулась книгой, в которой кроме поэтических, ярчайших описаний, приносящих читателю ощущение вспышки, прямых лучей солнца пустыни, бьющих в глаза – есть иное. Полкниги – глава «Прогулки по стене», полкниги – иное, три главы со странными названиями - Фотоувеличение, Праотцы и Прибытие. Правильнее сказать, что описания Александром Иличевским своих путешествий и прогулок по дельте Волги и террасам Оки, жизни в Калифорнии и на Апшероне - это всегда нечто иное, нежели травелог, даже в самом расширенном, романном варианте. Я бы назвал это прозой, чреватой идеями. Не то чтобы бывшему физику-теоретику (хотя бывшими они не бывают) не можно было обойтись без познавательности всепроникающего нон-фикшна, нет.
Но смотрите сами. Травелог, написанный быстро, коротким дыханием взбирающегося на священные холмы паломника, включает в себя интереснейшие, странные догадки. Метод догадки намечен в главе Фотоувеличение, ведь найти запрятанную в ткань бытия ключевую, причинную деталь можно, если обладать воспетой классическим фильмом способностью «блоу-ап», то есть осознать пропущенные, отброшенные сознанием восприятия, мысли и ощущения. Для этого и требуется «увеличить», магически вспомнить-пережить. Впрочем, это мои догадки, а Иличевский, как и Мильштейн в «Куке», имеет в виду именно превосходство фотографии над сознанием, фото можно увеличить и узнать скрытое.
В одном месте автор сближает, по критерию ненависти к евреям, мусульманских идеологов тотального джихада и Гитлера, который с восторгом приобщал мусульман к делу СС, а вельможных иранцев призывал жениться на белокурых бестиях третьего рейха. В другом месте напоминает о жизненной тяге Велимира Хлебникова к тайнам Ирана, мусульманства и грядущего прихода мусульманского мессии Махди, повелителя времени, в ожидании которого будетлянин назвал себя Председателем земного шара. Суфий Хлебников, так или иначе, присутствует в каждом тексте физтеховца, но на этот раз выдвинута, опираясь на сверхпоэта, некая пангеографическая гипотеза. Раз Хлебников считал себя двойником (рассказ «Ка») некоего жителя реки Нил, то можно найти точку симметрии между дельтой Нила и Волги. Точка эта рядом с истоком Евфрата.
Я видел восторг Иличевского, когда он показал мне эту точку, ведь Москва через этот оператор переходит в Мекку, а опорная точка пучка локсодром, увиденная писателем справа от Крыма на таинственном портулане 14 века, на Каталонском атласе – перевёртывается к берегам Эллады. Что это значит? Да не важно, важен полёт фантазии. Кстати, есть серьезные научные труды по доказательству главной, допотопной жизни «элладинов», тех самых греков мифа - на незатопленных берегах Причерноморья.
Чтение этой книги похоже на калейдоскоп, на каждой странице поблёскивает какая-то чёткая, блестящая, но не совсем опознаваемая рассудком фигура. Это такой метод письма, что становится очевидна многоярусность обыденного восприятия. Иличевский распаковывает обманную простоту ощущения, а ядерная плотность событий, «населяющих» время-пространство Святой земли, помогает этому процессу. Например, помянув левону, ладан из «Песни песней», нельзя не удивиться тайне запаха, ведь от первого Храма остался запах ладана. Лингвисты, биологи, Метерлинк, трутни пчёл, лимбическая система мозга – все знают нечто об обонянии, чего не знаем мы, читатели. «Из вкуса пирожного, влекущего за собой волны памяти, можно извлечь великий роман. Благовония – якоря памяти, поднимающие пласты времени». Так Пруст становится причастен тайне вспоминания Храма. А на следующей странице странная обмолвка Неёловой в фильме о Фандорине, число 5768, время прихода Машиаха, и всё это почему-то придаёт цвет и вкус тайне масонов.
На пути к возможности вспомнить Храм, причинный всем последующим храмам, автор не упускает ничего. Проанализирован «ответ запорожцев Магомету четвёртому», высмотрен шестиконечный щит Давида на поясной пороховнице полуголого репинского казака. Казаки потомки исчезнувших хазар-иудеев? Нет, это в других трактатах было, Иличевский лишь описывает крымский город караимов Чуфут-Кале и судьбу еврея-лжемессии, лже-Машиаха 1666 года Шабтая Цви, вполне могущего читать эти казацкие саркастические письма, ведь он принял мусульманство в Константинополе под страхом смерти от руки «репинского» султана.
Но больше всего меня (лично) порадовала история решения задачек в общаге МИИГАиК, где мы, астрономы, предавались дружеским пирам на десять лет раньше Иличевского. Представьте, нашего физтеховца, будущего лауреата Большой книги, заманил полоумный геодезист решать задачки. И там, в битком набитой буйными палестинскими арабами комнате будущий писатель понял гипнотическую мощь символа – араб уставился на его израильский блестящий в темноте значок и был на время парализован, выдворен за дверь. Задачки были за ночь решены, геодезист спасён от отчисления, Иличевский вышел на балкон двадцатого этажа общаги и увидел восход над Москвой-Курской. Вокзальная курва-Москва опрокидывается в Мекку. В моё время эта общага-Москва переходила в Ханой, несколько этажей было забито мелкими вьетнамцами, снабжающими советских людей огромными партиями дефицита – джинсами, парфюмом и магнитофонами. Эти вещи имели мощь идолов. До консьюмеристского рая было ещё далеко, ещё дальше, чем до Храма.