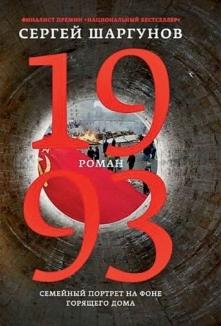1993

Сергей Шаргунов написал большой роман. Попытался отойти от стиля предыдущих текстов, написать регулярный, обширный, тщательный, постепенный роман о семье, о революции – и написал.
Революция вошла в семью типичных московских обывателей, персонажей романа, через телефигуры 1991-1993 годов: «Ойкина и Аксючиц, Бабурин и Челноков, Константинов и Астафьев, Якунин и Юшенков, Андронов и Уражцев, Исаков и Шашвиашвили…». Я как читатель этих имён не помню вовсе, зато помню, что некий Уражцев Павел – герой ранней шаргуновской прозы «Ура!», где автор примеряет образ, пробуется на роль угарного, золотого, модного, умного плэйбоя, вполне понимающего две главные вещи - предательскую женскую суть и солнечную правду революции. Тот Уражцев входил в наркотические врата восприятия аки Олдос Хаксли, тот персонаж неповторим, оставлен в своём сияющем заповеднике грёз наблюдать разноцветные «сны-салютики», и это хорошо.
Герои романа «1993» сделаны, как бы это точнее сказать, - внимательно, подробно, строго, аскетично, почти без штампов, навязываемых азартной горячей юностью. Проза впервые сделана автором как фантазийная, отстранённая от собственных воспоминаний, составляющих суть предыдущего романа «Книга без фотографий». То есть автор обрёл правильное, ощущательное внимание, не накаченное «пейотлем» пылких фантазий, внимание к вещам повседневным, пустым, обманчивым, молчащим, бытийным и ужасающим.
Перелистывая книжку «Ура!», вдруг вижу слова, точно попадающие в образ Виктора Брянцева, главного рыжего героя «1993»: «И вдруг краем глаза я ослеп. Золотое окно! Окно на первом этаже отличалось от остальных. Сияло золотом сквозь штору. Я подпрыгнул и звонко стукнул. Занавеска отдернулась. В окне — рыжий детина. Он что-то пожевывал. Разобрал меня во тьме и предупредил: - Я тебя удавлю. И задернул шторку. Я? Тебя? Удавлю? Невероятно! Народное действо! Меня отбросило, поволокло... Могучее течение тащит меня по жизни».
Точно сказано, поволокло автора в гущу народной жизни. И гуща эта давит и давит. Причём для автора народная жизнь в романе «1993» есть жизнь семейная, это лежит глубже всех бунтарских площадей 1993-го и 2012-го. Рыжий детина превратился в главу семейства, а роман начался с похода его внука, Пети Брянцева на Болотную площадь 6 мая 2012 года. Мы все там были, но неизвестно, будем ли ещё, а Пётр попал в Матросскую тишину - как выяснилось на последней странице романа.
Самое интересное в развитии стиля происходит. Поначалу Сергей Шаргунов совершил, я бы сказал, бурлескное, макабрическое приложение своей фантазии к мотивам своей же памяти, в результате чего получился текст «Ура!», где уже вторая строчка говорит о целом - Тугое ее тело покачивается на виселице, взбалтывая мрачными грудями. Дальше, написав строгую автобиографию, «Книгу без фотографий», вдруг применил свои удивительные силы памяти к форме классического реалистического романа, где пришлось навспоминать, нафантазировать жизнь романным, выдуманным персонажам. Так сошлись «память себя» и «фантазии о всех и вся», более-менее разделённые доселе. Это хорошая формула, путь Толстого и Флобера важен для писателя – вспомни себя, тогда будет к чему приложить фантазию.
Другое дело, что вспомнить другого, да ещё никогда не существовавшего человека, дело тяжёлое. Обязательно что-нибудь не сойдётся. Сложно мне было представить такого героического борца с педофилом, каким был в 14 лет Виктор. Сначала он педофилу попался, потом развязал верёвку и сбежал, потом снова увидел гада и наказал, натравив всю подростковую банду. Такого и у Стивена Кинга не встретишь. Хотя у Кинга сплющенные в детстве люди становятся неукротимыми злодеями или героями, или героями-злодеями. Но как-то это не вяжется с тем, что жена и окружающие называют Виктора ватным богатырём. Хотя, бывают такие увальни – долго запрягают, но разносят всё кругом, если вспыхнет ярость.
А может, у меня не сложились две вещи, служба Виктора на флоте и дальнейшая учёба в Физтехе, заведении для элитнейших интеллектуалов. Правда, в 1970-х годах брали в Физтех по разнарядке из армии, после трёх отупляющих, блаженных лет, проведённых в морских походах на корабле ВМФ. И вот, после всех этих сомнений, Сергей сказал мне, что был в жизни такой человек-моряк, учившийся в Физтехе, работавший в ФИАНе, спроектировавший тот самый экран. Реальность всегда страннее любой фантазии.
Получается, как заранее определил автор своего героя тремя точными словами в «Ура!», так оно и осталось – пожёвывающий рыжий детина, говорящий соглядатаю – удавлю! Постфактум, приходится признать - Виктор готов удавить всех подряд, хотя бы из-за того, что «женился не на целке». Это нечто губительное, глубинное и жуткое – затаившаяся ревность. Виктор постоянно срывается, заливает боль самогоном, становится подкаблучником. Но подспудное желание душить никуда не делось, оно не показывается, прячется авторской волей, а в финале всё ж таки прорезывается. При нападении на Останкино Виктор бросается к «ельцинисту», чтобы его придушить, но падает от внезапного инсульта, какие бывают у полнокровных рыжих детин именно в 40 лет. Здесь важно, что случайный ельцинист – тот самый хахаль-сосед, совративший юную Лену, о чём Виктор и не догадывался. Причина самого гнусного и опасного всегда где-то рядом, автор это точно подмечает.
Роман вообще существенно подспуден, Виктор Брянцев совершает эдакий дауншифтинг, падение. Может, так падают и целые страны? Из талантливого инженера-электронщика, которому доверили проектировать первый в СССР, всеми нами виденный уличный экран на Арбате – спускается прямо под землю, к жене, типичной советской тётеньке со средним образованием. Жена работает в «офисе» дежурной бригады аварийщиков, за достопамятной гостиницей Минск. И вот Виктор с отвращением ползает по туннелям, раздвигая трупы повесившихся граждан.
Все женские образы у Шаргунова превосходно узнаваемы - отчётливо вспоминаешь ту улицу, магазин, учреждение, школу, институт, работу в «почтовом ящике» и себя, олуха советского, озабоченного, так сказать, отсутствием секса в СССР. Лена не могла не подарить своё девство соседу, брутальному физруку с жёсткими усами, а потом «погулять от мужа» с парой-тройкой случайных попутчиков жизни, иначе она была бы ангелом, а не советской тётенькой. Дочка Лены, Таня, в свою очередь, повторила историю матери, не могла уберечь свои нежные 15 лет, отдала девическое золото хулиганскому соседу, шестерящему у серьёзных бандитов. И родился сын, Пётр, хипстер и «болотный» манифестант, не знавший своего отца, убитого ещё до его рождения.
Какова же главная подспудная мысль романа «1993»? При некоторых несуразностях в образах персонажей, при непроговорённых, непрояснённых мотивах судьбы и действий главного героя, этот текст тем более захватывает, втягивает в чёрную воронку двух неразрешимостей. Почему тем более?
Потому что неважно, кем и как работает Виктор, на ком он женат, неважны странности его биографии, зато важна хроническая, советская пригашенность, заторможенность, приглушённость сознания. Такое ощущение, что если бы жена Лена была за Верховный Совет, он автоматически орал бы лозунги «за Ельцина». И таковы все советские люди. Эта смутность, аффективность, расщеплённость сознания, несознавание себя превосходно описаны у Романа Сенчина в «Елтышевых». Так что если бы не случилось катастрофы октября 1993 года, то всё равно - безвозвратный и отвратный, тоскливейший дауншифтинг имени Елтышевых случился бы с нашим народом. А как же разбогатевшие граждане? Они ж мечта Елтышевых. Чистая обманка, ошибка восприятия, ведь богатые падают ещё быстрее, с ускорением.
О причинах нет места здесь писать, но намёки на такую «альтернативную» историю падения есть и у Шаргунова, что говорит о глубине текста. Даже если автор не согласился бы с оттенками «елтышевости» своего романа, даже если не случилось бы танковой атаки Белого дома. Настоящая история безальтернативна во внутреннем смысле – какие угодно события, не эти – так любые другие, обслуживают внутреннюю, душевную логику каждого отдельного человека. Просто надо иметь в виду, что душевная логика - отдельный крик боли, капля всеобщего расплава, который мы абстрактно называем обществом.
Это сейчас, двадцать лет спустя, и хипстеру, и кандидату наук ясно, что Ельцин породил Путина, со всей возможной железной логикой. Расстрел Белого дома и останкинская резня бензопилой, то бишь снайперами и пулемётчиками, породили и долго ещё будут рождать «болотные» и прочие уголовные дела, как самое мелкое и незначительное для властей (умолчим о чеченских войнах и прочих финансовых беспределах). И то, что роман «1993» закрепляет и образно, сквозь неизбывно тревожную историю одной семьи, показывает эту связь времён, дорогого стоит.
Две подспудные неразрешимости, заставляющие думать, таковы. Первое – невозможно не утратить образ человека, к которому мы все стремимся с детства, который образ есть также и библейский, новозаветный образ. Как не прелюбодействовать, когда сладострастие заставляет бросаться на «козлов» всех женских персонажей романа. А про мужских и говорить нечего. Недаром колоритнейший персонаж – коза Ася, зарезанная ближе к концу. Сначала коза, потом хозяин козы.
Сильнейшие строчки романа – об утрате, горчайшей детской потере, потере золотого руна, советского или постсоветского, не важно. О потере детства и девства. Эта потеря приводит ко всем остальным потерям, ведь измена, ложь и убийство – тройка близнецов. Символом именно такой потери выступает в романе убийство 9 сентября 1990 года священника Александра Меня, крестившего Лену.
Вторая неразрешимость - невозможно отделить, вычленить, отсеять личные обиды из «общественных» мотивов людей, бросающихся на пулемёты, идущих с разнообразными знамёнами, без оружия, без подготовки громить президентский ОМОН, невозможно убрать их личные провалы, порчу и заблуждения. Любые, самые ясные теории политологов всегда разбиваются о китайскую стену смутного гигантского чувства толпы. И чувство это – кайф уничтожения всего и вся, а цимис этого кайфа – праздник ликвидации своей собственной немощи и порчи. Покаяние через кровь. Кровь смывает всё, впитавшись в землю. В этом смысле в «1993» есть мотивы прекрасного романа Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Другая удавшаяся сторона романа – в этом смысле он подобен роману Прилепина «Санькя» - показ, рассказ о тотальной смутности чувства справедливости, которое говорит внятно только одно - что-то нарушено, «всё не так, ребята». Нарушено в душе, а я обвиняю всех вокруг, особенно власть. Уж власть-то, любая, на всех уровнях - главная нарушительница, порушительница всего. Власть ворует, душит, убивает – надо брать Останкино. Так сделал бы и главный революционер, ставший препаратом для древнейших магических операций над обществом, мумией в зиккурате - борец за счастье народов товарищ Ленин.
Нарушить строй любой власти – мечта, внутреннейшая и затаённая, любого обывателя. А на поверхности мы – надёжа и опора любому режиму. Но вдруг – всё кувырком, жена изменила, дети ушли, и нас, таких рогатых-сохатых, миллионы. Пойду-ка я, майор милиции, постреляю в гастроном. Ну, или пойду-ка я разомнусь, здоровенный самбист и кандидат наук, на русский марш. А чего делать-то? Какая там ещё любовь? Здесь кайфовее, в отбитом у банды Ельцина бэтээре. Любо, братцы, любо, любо братцы жить, с нашим атаманом не приходится тужить. Нарушаем, граждане. Так в деревне говорят, когда убивают скотинку – мы того, этого, нарушили её, козу-то.