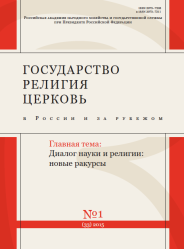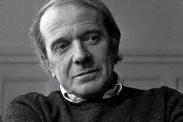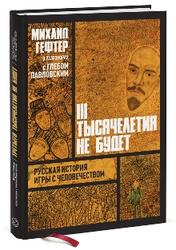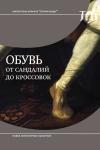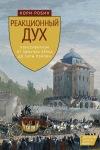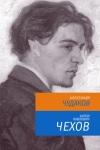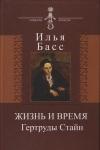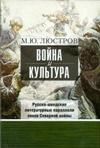Возбуждение [от] текста

Ника Скандиака. [12 / 4 / 2007]. Предисловие Алексея Парщикова. - М.: Новое литературное обозрение, 2007. - 110 с. ISBN 5-86793-530-2
человечная оценка [(взрыв)]
отличная [(взрыв)] композиция [(взрыв)]
море
из обратных косых и нулей (истлевшее
[хорошо]
уцелевает) ([быстро]
успевает больше чем медленно) {[(взрыв [{дольше
носится} / {носится / дольше}]) / быстрее
[коренным образом] что-то
понимаешь или сделать / [все,]
убегаю } / {[
и это
всегда} / }]
Цифры после имени автора - название ее книги. И тут интересно вот что. (Конечно, это моя, возможно очень личная, реакция.) Не вдруг понимаешь, что тут, вероятно, дата. На первый взгляд они кажутся очередной заумью. Такие же цифры в квадратных скобках и через косые - названия разделов в книге. Какая ближайшая ассоциация: неназванное, неназываемое (невыразимое), неопределенное (неопределимое) - неопределенность, слово и понятие, непременно связывается с Никой Скандиакой. Традиционные названия (слов а) - это определенность и фиксация (тема, проблема, ответ на вопрос): сад соловьиный или вишневый, "Возмездие" или "Завещание". Цифры (дата) - уход от всякой возможности определения. Это круче звездочек. Звездочки - все-таки название возможно, место для него (хотя бы по первой строке, подъем ее вверх). Дата (цифры) - чистейшая дыра (во времени, и где был автор - или читатель - неизвестно). Варианты интерпретации: не названо, потому что либо ускользает, либо слишком страшно.
И это дата чего? Стихотворений, цикла их, поэмы (потому что здесь и поэмы), или, в другом случае, составления книги, ее сдачи, выхода, последней точки в подборе материала, или того, что происходило (происходит) в авторе (с автором)? Что происходит. Дата как название книги полностью лишается своей временной локализации. Это самовитые цифры: цифры-слова.
Ника Скандиака - экзотичное явление в современной русской словесности. А ее первая книга необыкновенна среди других изданий. И не потому, что никто не делает (или делает мало кто) с поэтической речью и формой что-либо подобное. Или потому, что подобные стихи редко издают более или менее доступным широкому читателю тиражом. (Хотя эти оба утверждения отчасти справедливы.) То, что у другого поэта будет, было бы приемом, формой записи, новаторским поиском или опытом соединения видимого и слышимого, изобретательностью, экспериментом и решением задачи, у Ники - экстаз, чувство (искренность, непосредственность), почти простодушное (и буквальное) выражение происходящего внутри - нее. "Почти не разбирая слов" (в обоих смыслах слова "разбирать"), - пишет (записывает) поэт. Так это выглядит. (Сужу только по стихам, точнее - по состоянию текста, единственному материалу, который есть в моем распоряжении; что происходило в Нике Скандиаке во время написания, не знаю.) Вспоминается отзыв А.Шнитке о музыке Алемдара Караманова: там, где другие авторы атональной музыки (Шенберг) считали, Караманов "слышал все" (приведен в книге Т.Чередниченко "Музыкальный запас. 70-е").
Пушкинская формула: "мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами". "Четыре рифмы" и "однообразные стопы" - окказиональность. Ни того, ни другого у Скандиаки нет. Пушкина следует понимать обобщенно: стихотворение выходит готовым, или - уже стихотворением. Идея спорная, но к поэзии Ники Скандиаки применима буквально: запись (выход) того, что происходит в поэте (или с поэтом), и единственная форма записи этого, другой быть не может. (Поток сам себе находит форму.) Единственность записи, неотвратимость адекватной формы кажется парадоксальным в контексте захлебывающегося вариативностью письма Ники Скандиаки.
И тут одно из моих несогласий с А.Парщиковым. В его предисловии два основных понятия, вокруг которых все и строится (вертится): "незавершенное" (стихотворение; или даже - еще радикальнее - ненаписанное, "несобранное": его еще нет, оно в своем вечном начале - вечно начинается, формула красива, - почва, или пространство, для будущего стихотворения; каким оно "могло бы быть", "если бы написалось в конце концов", мы можем только гадать; "сырой материал" - "raw material") и второе - "кибернетическое" (которое отождествляется с "компьютерным") - пространство стихов Скандиаки.
Давний вопрос: насколько удачен выбор сложившегося и значительного поэта в авторы предисловия (и, значит, в интерпретаторы) к другому поэту, иной, чуждой поэтики. Совершенно естественна и скрытая (тайная, подспудная) критика "чужого" поэтического сознания, и попытка его адаптации, перевода на "свой" язык - более понятных категорий (рационализация непонятого, его приручение). Незаконченность, подготовительность (наброски) в отношении стихотворения Скандиаки - это взгляд по другую сторону стиля.
Традиционный путь здесь - аналогии, в которых рассеивается, истаивает чуждость. Вот отчего в статье появляется стихотворение более стилистически (стихо творчески) близкого автору Ивана Жданова, стихи которого, конечно, ничего объяснить в феномене Ники Скандиаки не могут. (Будущее стихотворение, которое могла бы написать Скандиака, пишет Жданов.) В предисловии поэт с критиком борются, и, на мой взгляд, побеждает Ника (!), то есть уходит из предисловия туда, где ей и естественно быть, - в свои стихи.
Интересно, как по-разному можно видеть (именно видеть) одно и то же. Я, например (и совсем необязательно, что я прав), не узнаю ничего из компьютерного языка во всех этих скобках квадратных и круглых, в косых и параллельных (знак такта), в потерявшихся знаках пунктуации (потерявших место или, напротив, нашедших собственное, самостоятельное): в этих будто бы случайных, никаким синтаксисом не связанных запятых, точках, знаках вопросительных (начинающих строку, как в испанском, или отнесенных на его обочину) и восклицательных. Исключение разве что несколько строк не строк, а что-то вроде адреса цитаты: [E G.LIVEJOURNAL.COM]... [REINARDINE.LIVEJOURNAL.COM]... И дальше - одно- или двустрочники. Это именно цитаты, заимствования, похоже на ready-made - найденная поэзия или, напротив, не-поэзия: вроде того, что "[только] [она] не дизайнер, а бухгалтер". Из компьютерного пространства в не- или до-компьютерное, в то, из которого компьютерное само только исходит (возникает), его приблизительная и несовершенная копия, образ. Слишком уж велик контраст с авторскими однострочниками: трюфелями/ / драгоценных/ /ноздрей/ /в полумраке [подергивая] - и называется стихотворение [звЁзды] - или: еще в озерах трепыханье рук - или: слезинка/прослезилась дле - в обоих последних случаях - бесконечное дле... ...ние эпизода (воронка эпизода). Как и вообще с кипящим, переливающимся (через край), непереносимым, захлебывающимся миром стихов Скандиаки.
Ведь что такое "знаки препинания", если освободить их от синтаксических обязательств, придать вид случайности, разбросать по тексту?
С вопросительным все ясно - во всяком случае, с одной из его функций: обособившийся, добившийся самостоятельности вопрос. Не вопросительность этого предложения, а вопросительность как таковая, вопрос, предложению (всякому) предшествующий, - и любому слову: придающий ему (и любому другому) сомнительность - это ли, так ли, правильно ли услышано (поэт - ухо):
океан [всепоглощающий], который - слух. [который - ухо]
артикуляторный слух, артикуляторное ухо [душа]
Не незаконченность, конечно, а неточность перевода (стихотворение как перевод), а варианты призваны охватить все возможности подлинника: ремесло, как зверь [зов? рог], к которому на помощь не бежит... - и дальше, дальше: к убийце мира мертвецу (? червяку [рассвета]) вернулись... Никакой вариант не предпочтителен, включая и последний, но за ним может быть и еще, и еще - много, было б время, а только все вместе и дают образ оригинала, его существование в рассеянии. (Кроме того, нет времени на выбор.)
Со скобками то же. Это некоторый аналог зачеркиванию, но отличающийся тем, что скобки вариант не отвергают, а оставляют (наоборот - принимают), уравнивают с другими. Но тогда какая разница между скобками квадратными, круглыми, фигурными? И что такое "косая"? Тоже тип скобки, маркирующий вариант (иногда да), или традиционная отметка паузы, цезуры? (Иногда да.) А сдвоенные параллельные? Деление на такты, вероятно. Еще остаются дефисы, потерявшие принадлежность, запятые в конце строки и точки в разных ее местах, двоеточия, после которых нет никакого раскрытия. А что делать со скобками, содержащими косую, вот так, например: (/)?
Знаки препинания здесь - чистая интонация (выделившаяся, как вещество в химической реакции), уже не нуждающаяся в лексическом (логическом) воплощении. Бродский говорил: "Потому что искусство поэзии требует слов..." Не всегда, не всегда. Интонация - в том смысле, в каком это слово применимо к выражению лица (к его сменяющейся мимике), к жестам рук или движениям что-то безмолвно выражающего (выразительного) тела. Интонация танца (танец вопросительный, восклицательный, скандирующий, запинающийся (запятые). Стихи Скандиаки - устная поэзия; ее письменная форма - только способ существования и передачи. (Интересно было бы послушать, как Ника Скандиака читает свои стихи.)
Стихи ее - это бесконечная жестикуляция. Очень естественным поэтому завершением книги выглядит перевод поэмы Рэндольфа Хили "Arbor vitae" ("Дерево жизни", заметьте) - о языке глухонемых, о его уничтожении (уничтожимости) и о торжестве его. Своего рода эпилог к книге. Или, если хотите, комментарий к ней. У Хили рационалистично описано то, что у Скандиаки разыгрывается в тексте. Стихотворения ее все - спектакли, зрелища (или иначе - продолжающийся, бесконечный спектакль, в поэтическом "Театре мимики и жеста"), стихи-жестикуляция. И в этой жестикуляции смысл отдельных слов и их сочетаний любой длины теряет единственность значения, растворяется в вариантах самых невероятных и взаимоисключающих, а знаки лексические (слова) и графические (синтаксические) уравнены.
Музыкально-танцевальное существование стиха. Возвращение слова и его языкового окружения в до-словную стихию, откуда оно и возникло, произросло. Сон, грезы слова, его воспоминания. "И, слово, в музыку вернись", по Мандельштаму; кажется, немного ускользают следующие за этим призывом стихи, во всяком случае, мотивировка из них, объяснение: почему "вернись"? "И, слово, в музыку вернись, // И, сердце, сердца устыдись, // С первоосновой жизни слито!" Музыка/танец непосредственно выражает первооснову, это понятно, а "устыдись" - потому что слова бесстыдны, бесцеремонны, выражая первооснову жизни, выбалтывая ее. Есть вещи (главные, первичные), о которых говорить на логическом языке равносильно кощунству. Стихи как запись танца (или музыки) - движений:
а жест (мой) - торопливый плод
нагретой телом пустоты из-под сил подать себя, как яблоко ("другому")
(Ева).
Стихи Ники Скандиаки только ловко притворяются современными. А на самом деле традиционный и очень давний (к йенским романтикам, к Новалису!) способ поэтического говорения и положения поэта ( романтический образ поэта) - под напором рвущегося из него: поэт-рупор, медиум, его стихи - запись, почти ритуальная. (Традиционное романтическое представление - и последнее слово в обоих смыслах.) Он, может быть, сам не вполне осознает (контролирует), что говорит. Говорит ( что-то) из него, через него. Отсюда и варианты - перевода. Поэт их торопливо и пугливо (путано) перебирает, ни в чем не уверенный (сам немного испуган). Слегка напоминает путешествие спящего из "Третьей" Дуинской элегии Рильке: "в сокровенную дикость, первобытные дебри свои... в дряхлую кровь, в седые провалы, где залегало ужасное..." Но только движение - обратное: у Рильке - погружение, у Скандиаки - подъем: ужасное всплывает, поднимается - завораживающее, останавливающее, гипнотизирующее речь, заставляющее ее сбиваться (биться):
как мы (провожая друг друга к причинно-следственной связи, но еще подползая кошке щекой с кошкой) как мы в тулупе пустыни (в пустыне беспричинной кожи) обхватываем друг друга, но никогда в одной природе
(обхватываем уже друг друга, но никогда еще в одной природе)
а оглянись, - ты оглянись-то
(некого) (никто)
небеззащитный, дрожащий космос
в ветровке, полупрозрачной, как ломтик/молитва слова/сыра
или смотри: разбитая в яркости разнообразия
терзаема сознанием
[выпалила
рыба]
декоративная [настольная]
керамика
забронированного пространства
(предложили четыре сверкающих вещи,)
Новым для меня в стихах Скандиаки явилось клубление, кружение (крушение) чужих поэтических структур, превращающихся (на глазах) в черновики.
И тут два значения (или обоснования) у этого существования чужих структур в поэтическом пространстве Скандиаки - усваивающих, принимающих в себя условия и особенности здешней поэтической местности: почему они здесь появляются? Всплывают (кружатся, напирают) изнутри вместе с прочим: тот мир ассоциаций и возникновений, откуда вообще появляются стихи. И второе: сами эти прежние стихи, подвергшись такому воздействию, обнаруживают в себе, раскрывают эту же зыбкость, неустойчивость, влечение к немоте жеста, страх (стыдливость) перед невыразимым (и его этим страхом выражающие).
Имена источников возникают в читателе (вопрос в начале предложения). Этих имен может и не быть - скорее, условные обозначения, знаки принадлежности: времени, стилю, мифу. Скорее, обобщенные образы стилей, чем определенные, размываемые стихи некоторых поэтов:
в самом уходе (городе) из сил
и предложила подвезти
и в мертвые отверстия подверзла
но глубже лежит изумруд II -но-сверкающая вина
(пастернаковский Шекспир или "Борис Годунов"
пушкинский? Пьесы Цветаевой.)
[как дерево отвергло плод] ([как] Дерево) отказалось / от
[своего/ II]
плода
("Как с древа сорвался предатель ученик...", но точно так же и: "Звук осторожный и глухой // Плода, сорвавшегося с древа" (Мандельштам). Вероятно, общий источник.)
когда приду в себя и неспокойным храмом / слетитесь надо мной
[со всех небес] слетитесь надо мной
(возлюбленные, мрамор, белизной)
(Батюшков или Вагинов?)
Я намеренно переставил строфы стихотворения, несколько нарушив его логику, несколько приблизив к хронологии истории поэзии. Вот предшествующая:
не спросив [каким [же] будет, люди?] и дитя шагнуло на лету
в ослепительную чистоту. не шагнув / ответило: твоим
пристанищем / [но] будет
[одно] лишь лето на лету
(Заболоцкий? Мартынов? Тарковский? Узнавайте сами.)
ходя кругом. и собственного тела. разматывая нить. [желтая нить ее тела]
ястреб спокойствия. (мощный) плавный. краснохвостый ястреб спокойствия.
хозяин. властвуя. вершин.
хранящий. нисходящий. [термы]
хладнокровный? властелин хроны / а с кровью?
краснохвостый *канюк*
(раны с костью)
Взлетающий: (теперь) отрывающий / отхватывающий от линии (прошлого) плеть-вепрь II (перьев / перьях)
(Фрагменты рукописи или план сочинения.
Пушкина? Лермонтова?
Потом появилась версия - Хлебникова.)
березу жаль
за трепетанье плоти
на свет
слуха
(Рубцов? возможны варианты.
В превращении то ли в Пригова, то ли
во Вс. Некрасова.)
(объятьях) я бежал всех вещей
в виде
хотел коснуться всеми
я спасался во всех обличьях
и хотел коснуться всеми
вещами II хищника? ближних?
я был
от
каждого
и спасался во всех обличьях
и ни в одном не спасся, и вот я здесь
я (был) во всех
(почти наверняка Сапгир.)
Сама сомнительность, неустойчивость источников и их взаимная превращаемость (метаморфоза) есть характеристика этого пространства их возникновения (и превращения, приращения). И так вплоть до то ли цикла, то ли "маленькой поэмы" в одностроках:
*
вспомните, не пользуясь словами
*
в новостях показали свет
*
передвигая действие на много диалогов в будущее...
*
[на правах староватого [маленького принца]]
*
недалекий, да удаленький
*
надгробья, обрубки снега...
*
от переводчика / ничего хорошего. ничего хорошего от переводчика...
*
унылым (лысым)
*
веселый (лысый)...
И т.д. (долго). Представьте себе Всеволода Некрасова в записи на карточках Льва Рубинштейна.
Возвращение в черновик (и даже иногда с почти пометами, нотабене на полях) - это совсем другое, нежели известный стиль "черновик": переписывание-варьирование-рассеивание (воронка вариантов, как у самой Скандиаки), или превращение в самостоятельный и законченный текст чужого черновика (то есть по определению не-законченного, парадокс), как в "Черновиках Пушкина" Сапгира. В последнем случае находящемуся в процессе складывания тексту придается атрибут завершенности: складывание, возникновение (процесс) как постоянное, устойчивое (возобновляющееся) состояние текста.
Здесь, у Скандиаки, - обратное; окаменевшая, слежавшаяся структура размывается, в нее вносится вариативность и подвижность - разными способами: вопросительный знак, варианты, само превращение текста-прототипа иногда в "другого" и всегда - в своеобразную ритмическую "рыбу", которая еще должна быть заполнена, а пока только слова-заменители, будто бы случайные, слова-жесты (та-та-та, "вот так как-то", как "показывал Пастернак рукой, на одном выступлении забыв эпитет", отец рассказывал). Это движение текста к началу, к тому истоку, откуда он пришел, возник, обратное (или возвратное) движение.