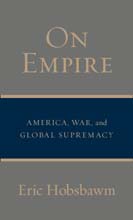Не пирует ли Америка на собственных похоронах?
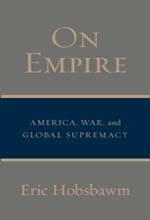
Эрик Хобсбаум. Об империи: Америка, война и глобальная гегемония / On empire: America, war, and global hegemony by Eric Hobsbawm. - Pantheon, 2008. - 128 pp.
Насколько большой, если не решающей может быть роль одного десятилетия в судьбе - курсе (и дискурсе) - империи!
В 303 году император Диоклетиан издал эдикт "Против христиан", повлекший за собой великие гонения, которые до сих пор носят его имя. Римская империя наполнилась мучениками; им несть числа, повсюду разрушенные церкви, из имперских учреждений изгнаны "неблагонадежные". Это были самые жестокие репрессии в римской истории.
В 313 году империей правит (Святой) Константин. Он издает Миланский эдикт, который даровал римским подданным - а, стало быть, и христианам - свободу вероисповедания и взял курс на толерантность по отношению к новой религии. Центр власти перемещается на восток, в Византию, и Европа начинает превращаться во фрагментарную христианскую ойкумену, из которой впоследствии возникли современные национальные государства - такие, какими мы знаем их сегодня.
Или, может быть - и здесь мы переходим от курса к дискурсу, - такие, какими мы помнили их вчера.
На заре нашего диоклетиановского (в каком-то смысле) десятилетия не было книги более актуальной, чем умопомрачительная "Империя" Майкла Хардта и Антонио Негри. Способная потрясти воображение своим объемом и энергией (ее авторы приобрели реноме "Маркса и Энгельса нового тысячелетия" - или, на худой конец, новоявленных Делёза и Гваттари), 450-страничная "Империя" (что показательно) почти ничего не добавляет к нашим представлениям о колониальном правлении, колониальных войнах, колониях как таковых. Все это, объясняют авторы, не более чем почва, на которой возрос заплесневелый старый империализм, индустриальный предшественник нынешней информационной, гиперкапиталистической, пост-(вставьте сюда все, что заблагорассудится) Империи, бороться с которой - наш долг, ибо таково веление судьбы.
Но как разобраться в социальной структуре этой новой формации? И, главное, кто играет в ней роль плохих парней? (Мы понимаем, что это уже не те ребята, которые имели в своем арсенале ружья, корабли и расовую теорию). Достаточно сказать, что Империя образца 2000 года - такой же щупальцевидный умозрительный концепт, как Матрица: "Политика дана нам непосредственно, - пишут господа Хардт и Негри. - Империя открывает новый горизонт, в который вмурованы наши тела и души. Она чисто позитивна".
Очень хорошо.
Однако вся штука в том, что сегодня, когда у нас за плечами восемь лет нового тысячелетия и сотни тысяч мертвых иракцев, даже самая мрачная антиутопия 1990-х годов - вы помните эти карнавальные протесты против ВТО? - воспринимается как старомодная причуда. Коль скоро дело дошло до отсчета утопленников, кто будет переживать по поводу обливания из пожарного шланга?
Я подозреваю, что на исходе этого невообразимого десятилетия дух времени, zeitgeist, нашел себе приют в тексте из разряда must read - в книге Эрика Хобсбаума "Об империи: Америка, война и глобальная гегемония", в которой можно усмотреть (и по объему, и по тону) своего рода антитезу к опусу Хардта и Негри. В последней книге Хобсбаума нет ничего умопомрачительного: в ней всего 97 страниц, она состоит из четырех коротких эссе, в которых гораздо больше вопросов, чем ответов. Самое сильное утверждение в книге - это, пожалуй, ее подзаголовок. Скромность господина Хобсбаума иногда чарует, местами раздражает, но именно она делает чтение работы "Об империи" столь актуальным и насущным занятием.
Давние почитатели автора удивятся, натолкнувшись на эпитет "скромный": применительно к этому историку, проработавшему в своей профессии 60 лет, куда естественнее прозвучало бы определение "амбициозный". Эрик Хобсбаум относится к тому типу интеллектуалов, каких, кажется, способно производить сегодня в заметных количествах только Британское содружество (урожденная империя). Будучи эрудитом, он доступен; будучи ученым старого академического закала, он не гнушается писать для широкой публики. Он настолько молод в свои 90, что называет себя марксистом, причем его марксизм не нуждается в каком-либо уточняюще-ограничительном эпитете: Хобсбаум не "культурный", не "гендерный", не "пост-", а просто марксист. Его opus magnum, проект длиною в жизнь, определивший его научную карьеру, представляет собой четырехтомную историю современного мира: "Эпоха революции: 1789 - 1848"; "Эпоха капитала: 1848 - 1875"; "Эпоха империи: 1875 - 1914"; и "Эпоха крайностей: 1914 - 1991". Это методологически выдержанный труд исследователя, открыто относящего себя к неприкрашенному (если не одиозному) "изму".
Новая книга начинается с резюме героического проекта Хобсбаума. В первом эссе, носящем название "О конце империи", эпоха крайностей спроецирована на жизнь самого историка. "Когда я родился, - пишет он, - все европейцы, за исключением разве что скандинавов и швейцарцев, жили в государствах, которые были частью империй либо в традиционном монархическом, либо в характерном для девятнадцатого века колониальном смысле слова". То же самое относится и к африканцам, и к обитателям Южной и Юго-Восточной Азии. Оттоманская империя только что распалась, Китайскую уже шесть лет лихорадило. "На протяжении моей жизни все это исчезло".
Ясно, что для Хобсбаума империя - это особый (хотя и получивший на определенном этапе повсеместное распространение) феномен, определяющей чертой которого служит наличие четкой физической, экономической и социальной границы между метрополией и периферией (колониями). Хобсбаум с сарказмом пишет о людях, ностальгирующих по империи: они воображают, что такое устроение, при всех его недостатках, является более упорядоченным и толерантным, чем все то, что пришло ему на смену; но мысль о том, что структуры типа Pax Romana или Pax Britannica благоприятны для "глобализации и мира во всем мире", - не более чем "дешевая обманка". Старые империи были мирными только в пределах своих границ, однако необходимым условием этой внутренней стабильности было существование международной системы, основанной на соперничестве великих держав. Любой Рим нуждается в своем Карфагене.
О том, что произошло после рождения мистера Хобсбаума, рассказывается во втором эссе под названием "Война и мир в двадцатом столетии". Коротко говоря, его содержание сводится к следующему. "Ясность сменилась неразберихой" - в двух направлениях. Во-первых, "граница между внутригосударственными и межгосударственными конфликтами - а, стало быть, и между гражданскими и международными войнами - стала зыбкой", о чем свидетельствуют военные действия американцев во Вьетнаме и русских в Афганистане. Во-вторых, "некогда четкое различие между войной и миром затуманилось". Например, Китай и правительство Тайваня находятся в состоянии войны, а Соединенные Штаты и иракские повстанцы - нет.
Эпоха империй кончилась потому, что государства больше не являются главными игроками на глобальной арене; жизнью и смертью распоряжаются не они и даже не отношения между ними. Проницательный читатель уже заметил иронию ситуации: при всех отличиях (в тональности и общей позиции) мистер Хобсбаум недалеко ушел от господ Хардта и Негри в общем подходе: все трое исповедуют единонаправленный детерминизм. Технологические и экономические инновации последнего столетия "свели на нет историю, какой мы ее знали на протяжении десяти тысяч лет, - пишет Хобсбаум. - Благодаря доминирующей теологии свободного рынка государства уступают власть частным контракторам, думающим только о прибыли". Глобализированная система электронного слежения "не прибавила государственной власти и закону эффективности, но сделала граждан менее свободными". Не перекликаются ли наблюдения Хобсбаума с моделью всепроницающей, "чисто позитивной" Империи Хардта и Негри?
Но эпоха империй кончилась. Сегодня, в 2008 году, Хобсбаум не может позволить себе роскошь безоговорочно исповедовать марксизм или какое-нибудь новое теоретическое убеждение. Таким образом, источником скромности автора сборника "Об империи" является вопрос, пронизывающий всю книгу: принимая во внимание известные факторы - победное шествие глобализации и ослабление территориальных игроков, - как объяснить десятилетие, на протяжении которого Америка применяла стратегию, по любым меркам идентичную образу действий канувшего в небытие империализма? Как объяснить катастрофу, которая не должна была произойти?
Мистер Хобсбаум не претендует ни на то, что у него есть ответы на поставленные вопросы, ни даже на точную артикуляцию основной проблемы. В одном месте он констатирует: "В мире осталась только одна потенциальная империя". А чуть ниже заключает: "Старая эра империй не может возродиться, тем более - усилиями одной сверхдержавы". В последнем из составивших книгу эссе ("Почему Америка, при всем своем гегемонизме, отличается от Британской империи") вскрываются очень существенные различия между современной Америкой и империей девятнадцатого века - империей par excellence, - что не мешает автору использовать прямые аналогии, дабы предостеречь "нынешнюю империю" от чрезмерного применения силы: "Победы в больших войнах могут оказаться для империи столь же фатальными, как и поражения в них: в этом состоит урок из истории Британской империи, который Вашингтону следовало бы хорошенько усвоить".
Случаются моменты, когда в книге "Об империи" просматриваются намеки на ответ или, по крайней мере, толкования, которые можно было бы довести до логического конца. Возможно, суть дела - в переживаемом нами разрыве между реальной действительностью и сконструированными институтами. "Глобализация, - пишет Хобсбаум, - дает сбой, когда дело доходит до политики, внутренней или международной". Иными словами, такие структуры, как ООН, все еще организованные вокруг территориальных государств, утрачивают связь с реальностью. В этом смысле Америка - это, быть может, всего лишь национальное государство, которое, на манер Тома Сойера, оттягивается на собственных похоронах.
И этот этап тоже канет в прошлое. Однако в этой связи напрашивается менее оптимистичное заключение. Читателю, наблюдающему за борьбой блестящего историка с не лезущим ни в какие ворота настоящим, трудно удержаться от подозрения, что мы имеем здесь дело с постоянно возвращающимся призраком устрашающей непредвиденности, неизбывной случайности, которая делает любое рассуждение об "империи" не более чем утешительной фикцией.
А что если бы болезнь не вынудила Диоклетиана отречься от престола? Что если бы Константина воспитывала не мать-христианка?
В конце эссе "Война, мир и гегемония" (изначально прозвучавшего в форме лекции в Дели) автор "сдается" - поднимает руки вверх. "Честно говоря, я не могу понять, что стряслось с Соединенными Штатами после 9/11, - признается Хобсбаум. - Это не поддается объяснению".
Источник: "The New York Observer"
Перевод Иосифа Фридмана