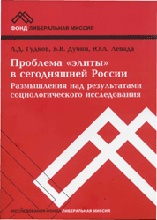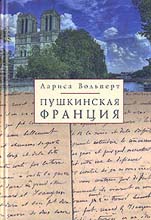Натюрморт с синей крупицей соли и красным зернышком перца
Пять книг на неделю

Елена Душечкина. Светлана. Культурная история имени. - СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. - 227 с., илл.
К прискорбию, кримпленовый язык книги отдает затхлостью прошлогодних сухофруктов. К тому же автор, демонстрируя китч, зачастую сама в него впадает (впрочем, чьим эталонным вкусом определять - где тонкая грань?). Дряблый стиль повествования постоянно конфликтует с задушевностью смолистой тематики, и эти столкновения вместо просветлений производят нежелательный пародийный эффект. Совсем как в театральном представлении жуковской "Светланы", о котором докладывает одно из писем Александры Протасовой (Воейковой) 1823 года: актриса изображала героиню "с такой трагической манерой, что это имело вид совершенной пародии. Невозможно было не смеяться!" (с. 19). От смеха переходя к "грусти одинокой", читатель вздыхает: "А ведь как отлично все было задумано!"
Действительно, интереснейшая пахитоска эта книга о Светланах. Начинается балладой Жуковского, а завершается подробнейшим пересказом рекламы майонеза (как же, чудная рифма - "Сила лета" и "Света"!). И все же, невзирая на огрехи, про эту книгу не скажешь, что два листа, а середка пуста: увлекательные исторические, филологические, социологические экскурсы истинного знатока.
А потому рискнем поделиться одним своим смелым соображением о "Светлане" Жуковского, с которой все и начиналось. На протяжении всей книги Душечкина приводит целый рой иноплеменных и православных заменителей имени Светлана. Фотиния (Фетинья), Лукерья, Лючия, Лиора, Ора, Paeva - это все кальки имени Светлана (греческие, латинские, ивритские, финские эквиваленты). При этом ни разу не упомянуто параллельное имя, которым называли русско- и франкоязычных Светлан, родившихся в эмиграции. Некоторые вернулись, живут сейчас в России, тем не менее их давние знакомые, обращаясь к ним, зовут их Клэр (а иногда и Клара). Набоков, к примеру, после неудачной помолвки со Светланой Зиверт в память своей юношеской влюбленности дал имя Клэр светлой подруге романного героя - Себастьяна Найта.
До сих пор не ясно, отчего Жуковский при втором переложении баллады Г.А.Бюргера "Ленора" избрал для героини редкостное для своего времени имя "Светлана". (В первом его вольном переводе баллада была "Людмилой".) Вот что предполагает Душечкина, гадая о выборе поэта: "Жуковский не придумывает это имя - оно уже известно. Им уже воспользовался А.Х.Востоков в "старинном романсе" "Светлана и Мстислав", написанном в 1802-м и напечатанном в 1806 году... Со стороны Жуковского, однако, это было не просто заимствование, но органичный и взвешенный выбор имени, производного от слова светлый. Выбор этот мог быть обусловлен и временем действия баллады - святками (о родственной близости понятий святости и света, сияния, которая подкрепляется и на уровне языка, писал В.Н.Топоров). Дав героине новой баллады имя Светлана, Жуковский тем самым "подарил" ХХ веку одно из самых любимых и распространенных имен" (с. 16-17).
Нам же думается, что поэты - современники Жуковского и литераторы более поздние прекрасно понимали, отчего гадает именно Светлана. В первом переложении Людмила в балладе Жуковского не гадала (только "приуныв, К персям очи приклонив, На распутии вздыхала"). Тема гадания, жребия появляется только в "Светлане":
Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою.
Как только появилась тема гадания (жребия), тут же зазвучало греческое "kleros" - жребий, клир (причт, христианское духовенство, первоначально избиралось по жребию), которое по созвучию, в свою очередь, читалось как французское "claire" - светлая (ясная, чистая). Так родилось имя Светлана. Они (имя и жребий) тесно взаимосвязаны перекрестным опылением подспудных межъязыковых звучаний. Так что Светлана, с ее "русскою душою" и "национальным колоритом и самобытностью", на деле была сплошным переводом с иноземного языка. Ирония в том, что имя, означающее светлость, чистоту и понятность, скрывало темноту, секрет и крайнюю неясность своего литературного происхождения.
Например, продолжая игру, пародируя ее, поэт Павел Катенин в свою переделку "Леноры", балладу "Ольга. Из Бюргера" (1816), ввел призыв к церковному хору (" Клир! пропой мне стих венчальный") и рефрен-обращение к невесте ("Страшно ль, светик, с мертвым спать?"). В общей сложности варианты слова "свет" повторены 14 раз. "Ольга" за "простоту и даже грубость выражений" (Пушкин) была воспринята современниками как полемика с поэтическими принципами Жуковского.
В начале ХХ века поэт (и тоже переводчик) Бенедикт Лившиц, продлевая содеянное Жуковским, соединит весь светлейший круговорот в таинственной словесной жеребьевке своей "Аллеи лир":
И вновь - твои часы о небе
И вайи и пресветлый клир,
Предавшая единый жребий
И стебли лебединых лир...
На этом следует остановиться, хотя далее напрашивается рассказ о тайной жизни баллады Жуковского и имени Светланы-Клэр в поэзии, например, Анненского, Пастернака или даже в "кларизме" Кузмина, но здесь не время и не место для таких расширенных отступлений. Все - и сказанное, и непроизнесенное - лишь заинтересованные свидетельства своевременности книги о культурной истории имени Светлана.
Лев Гудков, Борис Дубин, Юрий Левада. Проблема "элиты" в сегодняшней России: Размышления над результатами социологического исследования. - М.: Фонд "Либеральная миссия", 2007. - 372 с.
Центру Юрия Левады веришь безоговорочно (и просим считать эту веру категорией сугубо академической), и работы Центра сразу по выходе становятся вполне классическими в анализе социальной материи современности (и в России, и на Западе).
Элита - категория не только эмпирическая, применяемая для самоописания самими участниками политических событий, но и идеально-типическая (говоря веберовским языком), то есть конструкт, пригодный для исследовательских целей. Для элиты характерны такие признаки, как социальные ресурсы (обладание специальными знаниями, благами и возможностями влияния, доступом к власти), престижная обособленность от других групп, характер деятельности, функции (поддержание порядка, репродукция образца, адаптация или сопротивление изменениям). Элиту любят сравнивать со структурами традиционных обществ (кастами, ложами, тайными обществами и пр.), но это, подчеркивают авторы рецензируемой книги, - явная натяжка. Опрометчиво и антропоморфизировать это понятие, приписывая элите сознание, волю и особую миссию.
В основе "Проблемы "элиты" - анализ эмпирических данных трех волн экспертного опроса, который был проведен аналитическим Центром Юрия Левады по заказу Фонда "Либеральная миссия" в 2005-2006 годах. Работа такого характера, объема и сложности предпринята Центром впервые. Социологи имели возможность опираться на огромный массив данных массового и экспертного характера, полученных в опросах 1989-2006 годов, как опубликованных, так и хранящихся в базе данных.
Исходные посылки, сформулированные перед рабочей группой в качестве гипотез, которые предстояло либо подтвердить, либо опровергнуть, можно изложить следующим образом: установление фактически бесконтрольной власти президента сделало проблематичными и неясными любые перспективы развития страны, еще несколько лет назад, казалось, идущей по тому же пути модернизации, по которому прошли страны Восточной и Центральной Европы. Неудача на пути превращения России в открытое общество с правовыми институтами, конкурентной экономикой, представительской демократией и т.д. породила уныние, цинизм и безнадежность.
Высокий рейтинг Путина. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Все это заставляло считать, что любые протесты могут быть без труда нейтрализованы, а сам режим, подавив оппозицию и восстановив контрольно-репрессивные органы, может существовать неопределенно долго, пока не станет ясным полнейшая деградация страны. Эта опасность осознается многими. И если народу Путин нравится, то элита в нем уже разочаровалась, предполагают авторы книги. Конкретные причины могут быть различными, но все они сводятся к пониманию тупиковости и опасности проводимой авторитарной политики. Элита замену ему пока не нашла, но не хочет его поддерживать. Почему? Потому что реформы застопорились, многопартийность и свобода слова были сведены на нет, парламент дебилизирован.
Отсюда вопрос: будет ли путинский режим отторгаться активными и ресурсообеспеченными группами? Будет ли новый прилив политической оппозиции и сопротивления режиму со стороны бизнеса, общественных организаций, новых политпартий? Можно ли сегодня оценить потенциал модернизации страны, стратегии и ресурсы демократического движения? Есть ли инновационный резерв?
В связи с этим - три предположения. Первое: элита подстраивается под нынешнюю политику президента и его ближайшего окружения, обеспечивая традиционный для России путь авторитарно-бюрократической, номенклатурной модернизации. Второе: административный произвол фактически ведет к разложению и устранению элиты с политического поля, из публичной сферы в целом. Третье: сверхцентрализация власти и усиление госконтроля над всеми сферами общественной жизни вызовет внутреннюю консолидацию элитарных групп, озабоченных проблемами модернизации и европеизации страны.
Ответы на все эти вопросы и вопросы в ответ на эти вопросы читатель найдет в обозреваемой книге.
Во всех нынешних многочисленных разговорах об элите невольно соединяются три весьма разных представления об особом привилегированном слое. Во-первых, это персоны, наделенные властью ("управленцы", "бюрократия", "номенклатура", "начальство" и т.д. в том же роде). Во-вторых - интеллигенция и "образованное сообщество" (включая "властителей дум"), "люди знания", не обладающие ресурсами реальной власти и механизмов управления. В-третьих - отборная группа лидеров в тех или иных областях, важных для социального целого, носители образцовых инновационных достижений (от политики и финансов до искусства и спорта), способные через репродуктивные институты социума задавать подобный образец как уже надинституциональную обобщенную модель. Последнее - из западного обихода и представляет собой наиболее грамотное употребление понятия элиты. И вся беда в том, что как раз этой элиты (а она и есть единственно правильная и необходимая) в России нет, уверены социологи "Левада-Центра". Нет той элиты, которая была бы способна выражать адекватную национальную стратегию и должным образом организовывать ее реализацию.
Е.Ясин прав в своем послесловии к работе Гудкова, Дубина и Левады: читатель получил очень "интересную, своевременную и оригинальную книгу". Но мы надеемся, что дело дойдет до надлежащего узуса. Несмотря на мрачность прогнозов родной социологии.
Что поделать, мрачность - ее вечная муза.
А.Е.Аникин. Русский этимологический словарь. Вып. 1 (а - аяюшка) / Ин-т рус. яз. им. В.В.Виноградова РАН, Ин-т филологии Сибирского отделения РАН. - М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2007. - 368 с.
"Русский Фасмер" ("Этимологический словарь русского языка" Макса Фасмера) до сих пор остается основным справочником по отечественной этимологии. Стоит только спросить о происхождении какого-нибудь слова, как он сам вырастает на столе. В послесловии ко второму изданию О.Н.Трубачев, переведший этот фундаментальный труд, сожалел, что мысль о дополнении к Словарю почти угасла, в то время как продолжать его можно до бесконечности.
Аникин попытался осуществить замысел Трубачева. Фасмер требует новых словарных статей, потому что за это время собрана масса нового лексического материала (прежде всего в диалектных и исторических словарях) и обильного дополнения к статьям уже имеющимся.
Словник заметно больше фасмеровского, но в содержательном отношении превзойти Фасмера пока не удается. Поэтому, как указывает сам Аникин, речь идет, скорее, о материалах к будущему полноценному этимологическому словарю (а он возможен только при интенсивном и квалифицированном использовании первоисточников - летописей и т.п. древних актов).
При отборе лексики словарь Аникина продолжает фасмеровские традиции, которые, без сомнения, близки и академику Трубачеву, описавшему их так: внимание к темным и редким лексическим единицам, приоритет слов, тесно связанных с традиционными культурой, историей, бытом и контактами русского народа перед поздними заимствованиями и т.д.
Грандиозный проект, прекрасное начало. И удачи всем, кто причастен к лексикону. Думаем, что в двадцать томов Аникин не уложится.
А чего, собственно, жаться?
И.Ф.Анненский. Письма: В 2-х т. / Сост., предисловие, коммент. и указатели А.И.Червякова. Т. I: 1879-1905. - СПб.: Издательский дом "Галина скрипсит"; Изд-во им. Н.И.Новикова, 2007. - 480 с. (Русский эпистолярный архив. Вып. I. Т. I = Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования / Под редакцией А.И.Червякова; Вып. VIII).
Всякий уважающий себя журнал ("добреющий" - в терминологии Достоевского) норовит завести у себя полицию моды. Наконец к издательствам, поэтам и искусствоведам подоспела мода на Анненского. Бог в помощь, браво, банзай, виват и прочие междометия! Не все же "великолепной пятеркой" поэтов увлекаться, нужен на площадке и вратарь.
Мода и Анненский - нонсенс? Нет, нас и раньше убеждали мемуаристы, что Анненский - русский денди, а теперь читаем в его письмах к жене из Италии: "Пиджак мой прорвался или, правильнее, проносился на рукаве. Я пробовал было его заштопать собственными средствами, но вышло так плохо, что сегодня я отдал портному за 2 лиры (70 копеек). Здесь очень хорошая мужская мода. Пиджаки у многих без жилетов, а так как итальянцы большие франты, то они заменяют жилет большим кушаком с ремнями, но при этом непременно крахмальная грудь. Вообще тут все ходят в крахмальном, и я чувствую большое неудобство со своими пристежками - нельзя расстегнуться или надевай жилет... Фланель здесь носят одни англичане, и то не летом, а осенью" (с. 81).
Александр Ипполитович Червяков за модой не гонится. Как, впрочем, не кивал в ее сторону и Александр Евгеньевич Аникин. Прежде чем отдать себя в жертву русскому Фасмеру, новосибирский исследователь ревностно наблюдал над поэтикой Анненского. Выпустил ряд малотиражных сборников, посвященных "изучению репертуара цитатных элементов и пересекающегося с ним репертуара повторяющихся структур в творчестве Анненского и Ахматовой". В Новосибирске же в 2002 году издал небольшую книгу "Анненский и Шевченко (предварительные замечания)".
А Червяков и вовсе ни на кого не отвлекается. Занимает пост начальника учебно-методического управления Ивановского государственного университета и всю жизнь неуклонно публикует только Анненского. Издал в четырех выпусках его "Учено-комитетские рецензии" за десять лет (1899-1909), затем подготовил библиографию (сперва самостоятельно, а затем расширил ее при участии Н.А.Богомолова, В.Е.Гитина, Н.В.Котрелева, Г.А.Левинтона, Р.Д.Тименчика), а сейчас самолично издает письма. 216 писем поэта, из них ровно половина издается впервые, да еще с подробнейшим комментарием. Горесть для читателя только в одном: тиражи изданий в Иванове мизерны, и где можно было сподобиться купить вышеперечисленное (не состоя в соавторстве) - неизвестно.
О самом Червякове никто и никогда слова худого не уронил. Уж на что злоязычно и противительно филологическое сообщество, но и оно усердно поощряет Червякова. Его работы оценены как "несомненные события в изучении Анненского", а сам он именуется не иначе как "очень знающий дядька", "страстный фанат", "человек, который решает проблемы" или еще лучше - "кризисный управляющий" (надо понимать, по методике изучения Анненского).
Итак, по священной формуле позитивистов: "любовь как принцип, порядок как основа, прогресс как цель" (О.Конт). И все в порядке, если только на площадке... Что ж, толика кэмпа (не о лагерях речь!) никому еще не вредила (впрочем, повторим: чьим эталонным вкусом определять в филологической моде - где проведена граница?).
Лариса Вольперт. Пушкинская Франция. - СПб.: Алетейя, 2007. - 576 с.
Что делать аналитику, если пушкинистика - прямо-таки "бездонная наука", по словам Ларисы Вольперт, и потерять в ней себя - раз плюнуть? Остается одно - найти свой конек, свою нишу и достойную рабочую марку. Вольперт свою, слава богу, нашла - это игра: "...Некоторые отдают предпочтение поэзии, другие - прозе (я принадлежу к последним); хотелось взять за основу то, в чем я лучше всего разбираюсь, - оригинальную концепцию "игры", важную для творческого метода Пушкина" (с. 21). И выходит так: Пушкин с веселым усердием читает французов, потом разыгрывает их литературные сюжеты и образы в собственной жизни, на основе чего создает уже свои литературные тексты. На такой подход Вольперт благословил сам Юрий Михайлович Лотман, необыкновенно высоко ценил покойный Топоров, и его находят новаторским и эффектным множество здравствующих филологов. Я к ним с жаром присоединяюсь.
Данный том, включающий в себя в дополненном и исправленном виде две книжки автора: "Пушкин и психологическая традиция во французской литературе" (1980) и "Пушкин в роли Пушкина" (1998), - безусловно войдет в число классических работ по Пушкину. И тем не менее трудно удержаться от нескольких критических замечаний.
Не покидая привычных пастбищ сравнительного литературоведения, Вольперт модернизирует свою позицию: вместо простой компаративистики она предлагает рассматривать не цепочку "произведение - произведение", а "произведение - быт - произведение". Она убеждена, что в случае Пушкина только при посредстве быта можно перейти от текста исходного (французского) к тексту результирующему (собственно пушкинскому). Так, перенесение романа "Опасные связи" Шадерло де Лакло в жизнь - литературное упражнение в любовных интригах, а собственные письма - заготовки к прозе. Такой быт, по мнению исследовательницы, - своеобразная предыстория творчества, ранний этап создания художественного произведения. Мы с этим не согласимся. Никакой быт, ни литературный, ни олитературенный, не может дать литературы по определению и неспособен быть ни лоном, ни этапом, ни даже ограниченным условием последующих беллетристических достижений. Qui diable est-ce donc qu'on trompe ici? (Шишков с Литвиновым, прости - не знаю, как перевести!) Что бы там ни говорил Лотман, бытовое поведение не идет впереди творчества и не указует ему путь. Простым наращиванием значений и суммированием элементов содержания по оси повседневности и быта мы никогда не выведем и не поймем самого факта литературного творения (подобно тому как из самой значительной суммы претекстов не получить художественного текста - между ними онтологический и непреодолимый разрыв). Из ста бифштексов не составится лошадь, а из масок и игровых ситуаций - литературный текст, который, как явление формы, рождается эффектом и силой самопроизводности. Если в жизни, быту, повседневности Пушкина (и его друзей) царит литература, то ни за что не понять, зачем тогда надо переходить к написанию литературных текстов? (Как говорил Шпет, если жизнь - это искусство, никакого искусства нет и в помине.) Ссылкой на то, что в жизни Пушкин имеет дело не с полноценными текстами, а только с пикетами и полуфабрикатными заготовками, делу не поможешь. Баталия все равно проиграна. Феномен литературы не делится (ни пополам, ни на части, ни на предварительные сладкие кусочки). Он или есть, или его нет, как беременность. И в жизни этого феномена принципиально нет, поэтому и возникает насущная необходимость появления его в замкнутой сфере литературного творчества.
А.Н.Вульф принял условно-литературную маску за чистую монету и представил Пушкина на страницах своего "Дневника", скандально прозвучавшего после публикации в 1915 году, провинциальным Мефистофелем и отчаянным волокитою. Но ведь очевидно, что людей, косивших под французских героев Лакло, было во все времена хоть пруд пруди, однако в национальные классики они не вышли. Лариса Ильинична справедливо возразит нам, что Пушкин как раз гений, поэтому он и может, блистательно разыграв в своей жизни самые гривуазные и двусмысленные французские сюжеты, потом написать великие художественные тексты. Конечно, дело в личности Пушкина, а не в подражании французским (и каким бы то ни было еще) образцам поведения, но не объясняем ли мы одно неизвестное через другое и с помощью гениальности то, что само должно объяснять эту самую гениальность?
Вольперт продолжает жить схемой, по которой Александр Сергеевич идет от романтизма (это плохо) к бурному торжеству реализма (это, по ее разумению, очень хорошо), что роднит ее с советским литературоведением, к которому она во времена Советского Союза не принадлежала никоим образом (но времена нагнали). Называть сейчас Пушкина "реалистом" - все равно что обувать королевский клуб "Реал" в кирзовые сапоги.
Странно видеть литературоведа, который всеми фибрами и жабрами исследовательской психеи держится науки ему чуждой и соблазнительной - психологии. Но при чем здесь психология, страшный сон и коллапс любого смысла? Потому что она кажется литературоведу синонимом глубокого и утонченного понимания человеческой души? Какой самообман! Есть текст - и больше ничего (и никаких Заманиловок психологического иллюзиона). Иначе каталепсия таких характеристик Пушкина, как "отзывчивый на все доброе и прекрасное", непоправимый редукционизм и антропоморфизация реальности, которая может быть понята в своем существе только как неантропоморфная (попробуйте уяснить пушкинского "Пророка" в терминах отзывчивости на все доброе и прекрасное!).
Если переписка обитателей Тригорского слишком обширна, чтобы проанализировать ее всю, и это заставило Вольперт ограничиться одним эпизодом - перепиской Пушкина с Керн, то не очень понятно, что помешало Ларисе Ильиничне за прошедшие тридцать лет (со времени первой публикации) включить-таки в анализ весь корпус переписки?
Интересно, замечала ли сама Вольперт (или кто-нибудь из многочисленных ее читателей, коллег и благожелательных критиков), сколь велико и значительно число слов и понятий, взятых у нее в кавычки? Почему даже игра попадает в мышеловку кавычек? Непонятно.
Вольперт странным образом равнодушна к достижениям западных коллег. Она включает в свой анализ, во-первых, пушкинский текст (тексты), во-вторых - французский источник, в-третьих - ту часть пушкинистики, которая непосредственно касается их взаимоотношений. Ничего более. Хотя очевидно, что исследовательская литература, посвященная тому же Ш. де Лакло, будет огромна, но Вольперт смело может не принимать ее во внимание, потому что она не про Пушкина. Конечно, не про него, родимого! Но без нее какой может быть разговор о литературе, Франции и в конечном счете - о том же Пушкине? Я не призываю Вольперт вместо Сиповского ссылаться на Батая, но и после Сиповского, слава богу, были люди, которых можно с пользой почитать. Тем более что наука обязывает к осведомленности такого рода. Без этого прекрасная книга кажется немного самонадеянной и провинциальной.
Но для трудолюбивого и бесконечно преданного своей теме автора все, конечно, поправимо. Мы в этом уверены.
P.S. Особая благодарность - магазину "Фаланстер", предоставившему книги для обзора.