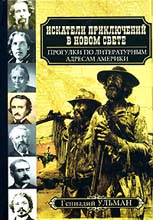Мяукающая лошадь
Пять книг на неделю

Л.А.Калинников. Иммануил Кант в русской поэзии (философско-эстетические этюды). - М.: "Канон +" РООИ "Реабилитация", 2008. - 416 с.: илл.
Краевед-энтузиаст Калинников называет все это собраньем этюдов, понеже такое жанровое определение ни к чему не обязывает и дает книге легкий флер задумчивости и лирической грусти. Автор уверен в особой притягательности Канта для русской мысли, а главное - единстве понимания немецкого философа в России. Невероятно трудно согласиться и с тем и с другим. Реакция на Канта, особенно в двадцатом веке, была судорожной и резко негативной, а если и говорить о каком-либо единстве в отношении к Канту, то о единодушии непонимания (в него спешили вляпаться, а не вдуматься). Это не Шеллинг и не Гегель, которыми зачитывались и которым откровенно поклонялись. Кантианцы были, но русский Кант не состоялся. Увы, это так.
Будучи доктором философских наук, Калинников обнаруживает поразительное незнание предмета - он, судя по всему, не знает немецкого, не знаком с основными работами по теме, в частности с великолепной статьей А.В.Ахутина "София и черт", впервые опубликованной в "Вопросах философии" в 1990 году, не замечен ни в каких ссылках на работы о Канте и т.д. ...Почему-то можно писать о русской поэзии так, как будто работ об этой самой поэзии нет и в помине. Может, хотя бы дежурные ссылочки на Гаспарова, Ронена, Тименчика? Не тут-то было!
Понятно, почему автор взялся именно за поэзию - такой поворот освобождает от необходимости серьезного философского анализа отношений Канта с Россией. Но запрягая гнедую пару "философия и литература", автор (и не будем здесь винить его одного) разделяет тьму заблуждений, касающихся этой щекотливой темы, когда аналитик неизбежно занят только идеологией и филиацией идей в художественной литературе и напрочь игнорирует поэтику. А ведь это безумно неинтересно, потому что, оставляя за бортом слово (а поэт пишет словами, а не идеями, если вспомнить формулу Малларме), исследователь описывает того же Канта только там, где впрямую говорится о Канте, есть имя Канта, снесены и пасхально выставлены все идеи и мировоззренческие обиды и поклоны и т.д. Тогда как первое правило литературы - ничего впрямую. И даже так: только вкривую! Это и есть истинная символология.
Ну какой к чертовой бабушке может быть Кант в головах Брюсова, Мережковского и даже образованного паче всякой меры Вяч. Иванова, которым посвящено по главе? Смешно! Даже самым вдумчивым читателям Канта в России - Соловьеву и Флоренскому - не давалось должное прочтение кенигсбергского мыслителя, что же тогда говорить о других?
У Аверченко в "Нечистой силе" есть рассказ, называющийся "Несколько слов по поводу этого, которое". Удивительно похоже на книгу Калинникова, у которого тоже хруст неотпетых человечьих костей: все, что ни сказано о Канте, - какое-то бесконечное "по поводу этого, которое". И чем многостраничнее и важнее, тем мрачнее итог.
Геннадий Ульман. Искатели приключений в Новом свете: прогулки по литературным адресам Америки. - СПб.: Информационно-издательское агентство "ЛИК", 2007. - 256 с., илл.
В книжном магазине довелось взять с полки этот маленький томик. У расположившегося неподалеку юного интеллектуала-горожанина поднялись удивленные брови: "Это же почти детское...". Интерес "от противного" был подогрет. Да и книжка выглядела аппетитно: завлекающее название с отсылкой к Умберто Эко, отличные картинки (хорошего качества портреты на смутных старинных географических картах и много чего еще - архитектурного, пароходного, рукописного). Компиляция, но славно продуманная. Знаменитые европейцы приплывают в Америку - Жюль Верн, Генрих Шлиман, Стивенсон, Киплинг, Сенкевич, Оскар Уайльд, а также многие другие. В общем, и что делали - расскажем, и что видели - покажем.
Пора знакомиться с автором. С задней обложки на читателя браво взирает очкастый и бородатый одессит лет шестидесяти, любитель флибустьеров и Дюма, поклонник Александра Грина, Паустовского и Анжелики, маркизы ангелов. Филолог-англист. Эмигрировал в США в 1990 году, живет в Нью-Йорке, далее в информации о занятиях наблюдается некоторая невнятица: "преподаватель одного из колледжей на Манхэттене". Не беда, уточним в сети. Французская энциклопедия приносит результаты фантастические, по-русски и впрямь такого о себе не скажешь: "профессор английского языка и лингвистики, мировой литературы и психологии в Professional Business Колледже Нью-Йорка". Конечно, изучение авантюрной психологии неизбежно сказалось на страницах книги. Слишком много подсчетов чужих заработков и убытков, рыночно-зазывных проповедей. Но и это можно списать на профессиональный интерес к писательству как бизнесу.
Настороженность возрастает по мере чтения. Поначалу, как и положено для бывшего компатриота, любезная не всякому сердцу ностальгия по бригантинной символике: "а ну-ка песню нам пропой...", "бороться и искать...", "йо-хо-хо, все равно за борт!". При фотографической памяти и заядлом библиофильстве автор сохранил мальчишескую страсть к приключениям, криминальным и фантастическим жанрам. Наигрыша и позы нет, новомодных изысков тоже, все до простодушия внятно и естественно.
Но милая прямота Ульмана довольно быстро оборачивается против него. О чем бы он ни писал, господствует превосходная степень: "тончайший психологизм", "колоссальные успехи", "ошеломляющие результаты", "изумительный перевод", "роскошный отель", "трогательная и гениальная интерпретация". Сопровождается этот радужный поток сомнительным набором штампов: "моментально влюбились на всю жизнь", "фактически спасает", "буквально засыпали", "практически без денег", "достаточно новые средства", "абсолютно чудесная", "абсолютно разные", "довольно беден". А затем уж пошли и вовсе несуразности: например, некий парк "растянулся" на 8 квадратных километров, а кто-то "уговорил поехать с собой своего брата".
Издательский редактор "отдыхал" не только при стилистической чистке. Всего три примера.
Повествование об авторе Шерлока Холмса: "В 1914 году сэр Артур Конан Дойль получает приглашение от правительства Канады... <...> 20 мая 1914 года чета Дойль отплывает из Саутгемптона на пароходе "Олимпик". <...> Судно только что прошло капитальный ремонт в Белфасте: после недавней (прошло чуть более месяца) гибели "Титаника" старались избегать любых происшествий" (с.165-166). А что же тогда налетело на айсберг и затонуло в ночь с 14 на 15 апреля злополучного 1912 года?
Об Англии и ее отважных рыцарях Ульман с придыханием пишет: "Процитирую неизвестного поэта из любимого мною романа "Алмазный мой венец" Валентина Катаева:
Воздух ясен и деревья голы,
Хрупкий снег как голубой фаянс,
По дорогам Англии веселой
Вновь трубит почтовый дилижанс..." (с.157).
Слов нет, Англия прекрасна, но и Одесса недурна. А уж интернет вообще познавательнейшее место (кстати, Ульман сообщает, что он много публикуется в сети). А потому ему не следовало бы называть неизвестным того, кто давно опознан. Первая статья о катаевском "эскессе", одесском поэте Семене Кессельмане, авторе цитированных строк, появилась в 1984 году, когда Геннадий Ульман еще жил и спал спокойно в любимом городе - см. Карпенко Ю.А. Ономастические загадки В.П.Катаева. "Русская речь", 1984, ? 4, с. 10. Сейчас подробную информацию об "эскессе" можно легко найти в сетевом варианте катаевской книги, в комментарии, написанном О.Лекмановым, М.Рейкиной (при участии Л.Видгофа).
В рассказе об Этель Лилиан Войнич еще один показательный анахронизм: автор где-то что-то наскоро переписал, но проверить не удосужился: "В 1898 году жена поэта и критика Минского Зинаида Венгерова перевела роман "Овод" на русский язык, и Артур Бертон заговорил по-русски. Роман опубликовали в царской России в журнале "Божий мир"!" (с.230). Женой Н.М.Минского (Виленкина) З.А.Венгерова стала через 27 лет - в 1925 году, а в 1890-е годы женой Минского была ее племянница - поэтесса Людмила Вилькина (да и журнал назывался наоборот - "Мир Божий").
Можете себе представить, что станется, если пойти по следам всех ульмановских героев... Но у нас не было намерений писать комментарий к этой книге, мы всего лишь жаждали ее похвалить. Увы, в рубрику рекомендованного детского чтения книге попасть не суждено. Похоже, опрометчивый автор вместо того, чтобы в Индию духа купить билет, из-за очередной ошибки приобрел путевку в Болливуд.
Фрэнсис Нэтеркотт. Философская встреча Бергсона в России (1907-1917) / Перевод и предисловие Ирины Блауберг. М.: Модест Колеров, 2008. - 432 с. (Серия: "Исследования по истории русской мысли". Том 13).
Кое-кому везло. Канту, Шеллингу, Ницше. Об их влиянии на русскую философскую мысль писано. И немало. Слава богу, книгой английской исследовательницы, вышедшей в Париже в 1995 году, а ныне переведенной у нас, настал час и Бергсона, который, конечно, не уступает в России немцам по части популярности и авторитета. Г-жа Нэтеркотт вопрос ставит куда шире: а можем ли мы вообще говорить об особой русской философии или все это враки национально-мифологические? И, похоже, склоняется к тому, что можем, заменяя знакомые понятия ситуации и контекста на эффектную, но малопонятную театральную метафору "русская философская сцена". Не по душе ей и дискредитированное словечко "влияние"; вместо него - "встреча". Оно бесспорно свежее, но как-то возмущает наше понимание не то ненужным оттенком экзистенциальности (так и видишь Лосского, жарко пожимающего на Кузнецком мосту руку Анри Бергсона!), не то вакханалией на Курском вокзале.
Бергсон в начале XX века шел как по маслу: жизненный порыв, творческий прыг-скок, разгул витализма, иррациональный смак любого блюда - все это было дорого и близко (а то, что казалось недостаточно радикальным, домастерили, подобно ключевому бергсоновскому понятию длительности, мистифицированному на русский манер). Но наши аборигены над французом особенно голову не ломали. А зачем? Бергсон был гож только для своих домашних премудростей. А потом уже - война, революция... не до Бергсона.
Вряд ли можно, как это делает Ирина Блауберг, переведшая книжку и написавшая вполне толковое предисловие, именовать работу Нэтеркотт исследовательским прорывом (англичанка сама в эту тему, то есть серьезность освоения Бергсона в России, по большому счету, не верит). Нэтеркотт только поманила обещанием, но ее не стоит судить строго - в России, чудовищно скудной на историко-философские изыскания, и того нет. Поэтому - спасибо ей.
Дзига Вертов. Из наследия. Том второй. Статьи и выступления. - М.: Эйзенштейн-центр, 2008. - 648 с.
Второй том "Из наследия" станет наиболее полным на сегодняшний день корпусом теоретических текстов Дзиги Вертова. Здесь собраны практически все статьи и выступления, сохранившиеся в фонде великого режиссера в Российском государственном архиве литературы и искусства. Что и говорить - многие печатаются впервые. Архивные оригиналы подчас отличаются (по разным причинам) от ранее опубликованных журнальных и газетных текстов, поэтому прямой резон уточнить и републиковать.
Впервые наследие Вертова предстало в сборнике "Дзига Вертов. Статьи. Дневники. Замыслы", который увидел свет в издательстве "Искусство" в 1966 году под редакцией С.В.Дробашенко. Будучи единственным изданием такого рода, сборник сослужил свою добросовестную службу, хотя, как уверяют нас новейшие публикаторы, в нем полно неточностей и огрехов. Будем уверены - позднейшие публикаторы найдут неточности и непозволительные огрехи и в нынешнем издании. Достаточно только сказать, что комментарий здесь лишь самого скромного текстологического свойства, настоящее комментирование - дело будущего.
Дарья Кружкова, на совести которой составление тома и текстология, проделала колоссальную работу. Браво! Она же написала предисловие "Читая Вертова", увы, заставляющее этого колосса слегка прихрамывать. И вот почему. Чтобы как-то упорядочить ошалелую кучу вертовских текстов, где полно черновиков без начала и конца, разрозненных заметок, однообразных текстов для себя, непонятных машинописей и т.д., Кружкова крайне неудачно делит их на две категории: тексты и... антитексты. Тексты (в основном статьи и выступления 1920-х гг.) - это твердое "за": провозглашение и обоснование своих теоретических принципов. Антитексты - это, по мнению Кружковой, несомненное "против": критиков, врагов и недоброжелателей, всегда готовых похоронить великое кино нашего героя. Одна беда - никаких продуманных и развернутых теорий у Вертова нет вообще. Не могут же таковыми считаться пара-тройка (пусть и блестящих) программных статей и манифестов двадцатых годов! Сам толстый том производит тяжелое впечатление. Насколько божественно ясны и великолепны фильмы Вертова, настолько темны, путаны и многословны его тексты. Они самым непростительным и мальчишеским образом бессодержательны. Это точно не Эйзенштейн, который в теории и письменных текстах не только не отстает, а во многом опережает собственные гениальные кинокартины. Все это будет полезно для историков кино, но не более. Вертовское теоретизирование шизоидно (для него писать о себе в третьем лице - обычное дело, и даже Кружкова беспомощно и горестно разводит руками) и очень слабо рефлексивно (между праксисом и теорией бездна, в которой Вертов, не перешагнув, пропадает с музыкой).
Он все время на кого-то обижен, кого-то обвиняет, требует, жалуется, что его творчески обокрали, не поняли, недооценили... И сто раз повторяет одно и то же! Это какой-то миф первотворения в слепой кишке коммунальной кухонной свары. Кружкова, чтобы как-то спасти его от бесконечных унылых повторов и оракульских каракулей, придумала следующее: "Но постепенно (ну ничего себе постепенно! Вертов с самого начала такой и есть! - В.М.) корпус начинает напоминать какой-то единый модернистский эпос. Цементирующим раствором, движущей силой этого воображаемого единства здесь выступают именно повторы" (с.11). Понятие модернизма тем и хорошо, что годится для чего угодно, но чтобы эпос! И что эпического в бабьем лепетанье и монологическом нытье? Повтор тут не знак единства, а знак жалкой стреноженности мысли и пыльного топтания на месте.
Сам режиссер говорил: когда критик уличает лошадь в неумении мяукать, он разоблачает себя, а не лошадь. Это звучало бы куда верней, если бы сам Вертов не заставлял маниакально и хором мяукать конармейскую киноконюшню.
Анджей Щеклик. Катарсис. О целебной силе природы и искусства / Предисловие Чеслава Милоша. Перевод с польского Ксении Старосельской. - М.: Новое литературное обозрение. 2008. - 192 с., илл.
На десерт нужно было выискать что-нибудь прекрасное. Эта книга - достойное лакомство. Как показало время и статистика, врач - идеально писательская должность. Когда-то польский исследователь Станислав Конопка, на которого теперь принято ссылаться, подсчитал, что история мировой литературы насчитывала 120 писателей-врачей. И у Польши свой немалый вклад: Ян Брожек, Николай Коперник, Януш Корчак, Станислав Лем. А теперь можно добавить еще одно доблестное имя - Анджей Щеклик.
Книга замечательно и эрудированно написана, и ее предмет - сама медицина, достоверное соединение науки и искусства, милосердия и колдовства. Автор со знанием дела сравнивает редкостную личность великого Врача с чародеем-музыкантом, обладающим абсолютным слухом. И благодаря Щеклику начинаешь понимать неслыханный успех, выпавший нынче на долю отрицательного обаяния современного кудесника и пакостника - доктора Хауса.
У автора обширный диапазон гуманитарных познаний. Приятно встретить на его страницах ненамеренные отзвуки таинственных строк русской поэзии (в мире слов и образов - все взаимосвязано). Щеклик пересказывает стихотворение своего друга, нобелевского лауреата Шеймаса Хини, посвященное притче о св. Кевине и дроздах, свивших гнездо на его протянутой руке:
Он должен так с рукой, как ветвь, простертой,
Стоять в жару и в дождь, пока дроздята
Не оперятся и не улетят.
Знал ли Велимир Хлебников эту ирландскую легенду, когда вообразил себя древним пророком? Он, как и монах, далек от здравого смысла, но верен жизни, гнездящейся на "росистой ветке Млечного пути":
Так я кричу крик за криком,
И на моем каменеющем крике
Ворон священный и дикий
Совьет гнездо, и вырастут ворона дети,
А на руке, протянутой к звездам,
Проползет улитка столетий!
В главе "В объятиях змей", посвященной символу Асклепия-эскулапа - змее, обвившейся вокруг его жезла, Щеклик рассказывает о прирученных покровительницах домов и святилищ у греков и римлян: "Дети играли со змеями, женщины летом охлаждали ими шею и грудь". Как бы иллюстрацией к сказанному служит знаменитый портрет Симонетты Веспуччи работы Пьеро ди Козимо, где на груди красавицы - "ожерелье" из живой змейки. (То ли гибнущая Клеопатра, то ли прохлаждающаяся флорентийка...) На эту "прекрасную даму" Возрождения походила, по воспоминаниям современников, муза поэтов начала ХХ века - Ольга Гильдебрандт-Арбенина. В одном из стихотворных подношений Арбенина получила от поэта-поклонника странный дар:
Возьми ж на радость дикий мой подарок -
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.
Осипу Мандельштаму через 440 лет (столько было портрету Симонетты в 1920 году) пришлось всего лишь ядовитое монисто одной красавицы заменить на низку пчел, утративших ядовитые жала. Чужое подобье не мучит, а мед и яд - чудные врачеватели в любви. Древнегреческий "катарсис" - это очищение, освобождение в сопереживании.
P.S. Особая благодарность - магазину "Фаланстер", предоставившему книги для обзора.